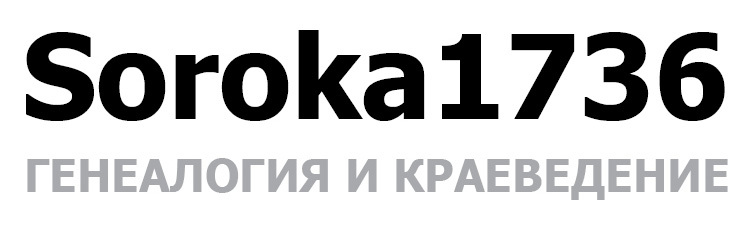Недавно мы публиковали статью французского фотокорреспондента Жоржа Эрколя «На берегах Волги. Путешествие в Самару и Казань» из газеты «Illustration» от 15 октября 1921 года, рассказывающую о начале голода в Поволжье.
В поездке его сопровождал журналист британской газеты «The Manchester Guardian» Артур Рэнсом. В номере газеты от 11 октября 1921 года он опубликовал собственные заметки об этом путешествии.
В поездке его сопровождал журналист британской газеты «The Manchester Guardian» Артур Рэнсом. В номере газеты от 11 октября 1921 года он опубликовал собственные заметки об этом путешествии.
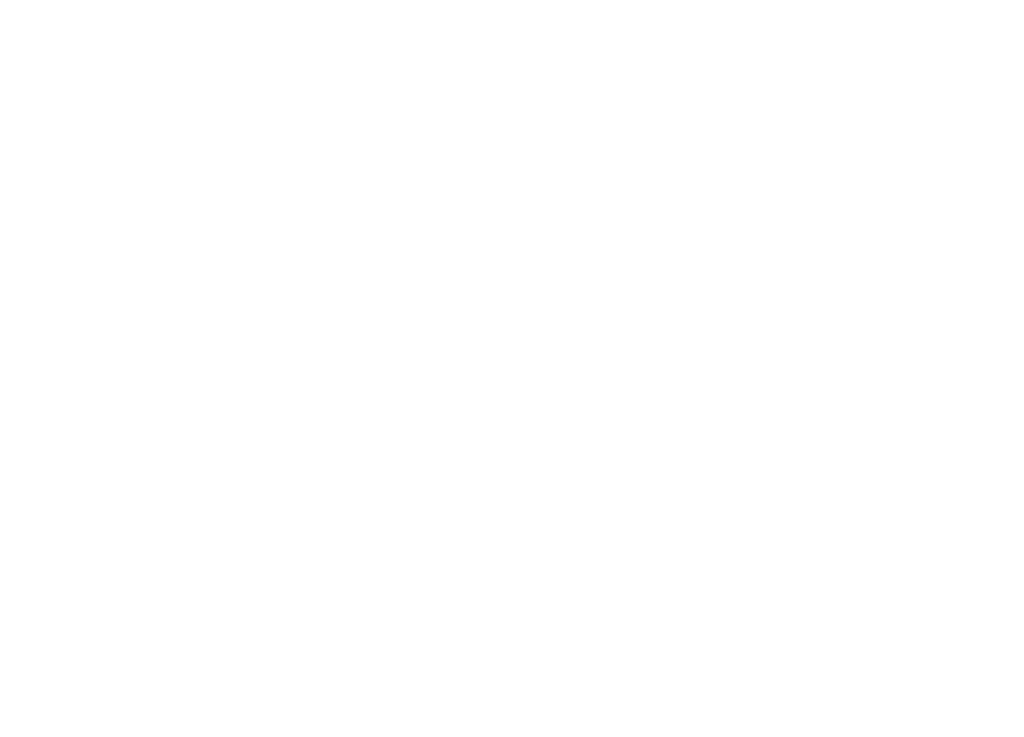
Артур Рэнсом и Жорж Эрколь
ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ
Артур Рэнсом
Газета «Манчестер Гардиан», вторник, 11 октября 1921 года
Перевод – Сергей Никитин
Перевод – Сергей Никитин
Мы пошли по разбитой, ухабистой улице к берегу Волги, миновали ларьки, где можно было купить белый хлеб, и буквально метров через сто наткнулись на старуху. Она что-то готовила в помятой кастрюле, – это был конский навоз. Совсем неподалёку от рынка расположилось большое число беженцев: мужчин, женщин и детей. Они бежали от голода, прихватив с собой какие-то пожитки, они по-прежнему голодали, и сидели здесь в ожидании того дня, когда смогут уехать в более хлебные места. Некоторые из них укрылись под навесами – накрапывал дождь. Другие безучастно сидели вне укрытий, без движений, и даже не попрошайничали. Я никогда не забуду сморщенное лицо тихо плачущей маленькой девочки, оно было мертвецки бледно-зелёного цвета. Её ноги – кожа да кости, причём кожа иссиня-чёрного цвета. И таких тут были сотни. А две недели назад на волжском берегу Самары сидели двадцать тысяч человек, надеющихся, что их куда-нибудь вывезут. Вывозят лишь около полторы тысяч в день. Туалетов тут, конечно, никаких нет. Берег был просто чёрным от экскрементов, пока, как мне поведал очевидец (не коммунист), местные большевики не устроили «субботник», который сам по себе достоин отдельного описания. Коммунисты убрали фекалии, что на пару дней снизило уровень жуткой вони, которая теперь снова распространяется со стороны реки.
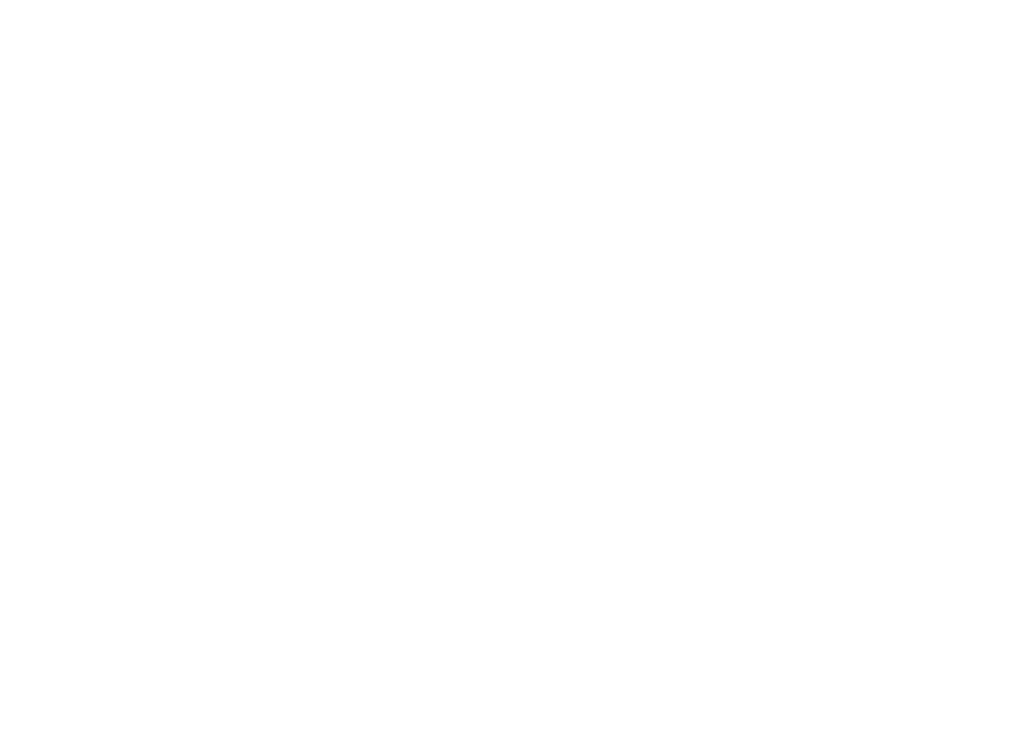
Кадр из кинохроники «Inside the Gates of Soviet Russia!», снятой Артуром Рэнсомом и Жоржем Эрколем в Самаре.
British Pathé
British Pathé
Утром второго дня мы зашли в один из шестидесяти «детских домов» Самары. Французскому журналисту Эрколю надо было сфотографировать голодных сирот, детей, сознательно оставленных родителями на улицах. Все ребятишки выглядели так, как будто они только что поступили в этот детприёмник. Мы вышли в сад, – обычный дворик с несколькими деревьями. Там было полно детей: кто-то лежал на солнце у забора, кто-то сидел в группах – не по-детски молчаливые ребята. Все были в лохмотьях, полуголые, некоторые из ребят были одеты лишь в одну рубашку. Все они чесались. Между ними ходили мужчина и женщина, они тихо разговаривали с ребятами, относили больных в дом, выносили кого-то из здания на свежий воздух. Как только Эрколь начал вращать ручку своей камеры, некоторые из детей обратили на нас внимание. Они поднялись на ноги, кто с испугом, кто с интересом, при этом многие из них тут же упали и, будучи слишком слабыми, встать не смогли, – так и остались сидеть на том же месте. Эрколь запечатлел их такими, какими они были. Затем он выбрал четырёх маленьких мальчиков и заснял их по отдельности. Желая как-то поблагодарить их, он дал им немного шоколада, но женщина, ухаживающая за детьми, успела его остановить. «Вы не должны этого делать», – сказала она; «Они слишком голодны». Но было поздно. Все те, у кого остались хоть какие-то силёнки, уже громоздились друг на друга, тихо и слабо попискивая: уподобившись маленьким зверькам, они сражались за кусочки шоколада.
За те два дня, что мы пробыли в Самаре, мы увидели десятки таких сцен. Самара – только одно из сотен подобных мест. Люди пытаются спасти детей. У них нет средств, которые есть у других стран, и нам надо дать то, что мы должны дать. Но, к стыду человечества, есть в Западной Европе такие люди, которые настаивают на том, что делать этого не надо. Тут, за товарной станцией, разбит огромный лагерь из белых палаток, это военный лагерь красноармейцев, переданный армией в распоряжение беженцев. Беженцев больше, чем мест в палатках, они натянули ещё какие-то тенты, соорудили шалаши из всего, что было под рукой – из тряпок, веток деревьев, кусков старого железа, найденного около подъездных путей. На пустырях, позади кладбища, куда каждый день возят новые трупы («Сегодня утром привезли тридцать пять», – сказал нам человек, живущий в кладбищенской сторожке), и вдоль железнодорожных путей почти на километр тянутся небольшие бивуаки: там люди поджаривают кусочки тыквенных корок, конский навоз, кое-где – огрызки хлеба и листья капусты. Во всей этой огромной толпе каждый был жертвой голода, и если бы их мучал только голод, то это было бы не так страшно. Мы увидели, как от палатки к палатке ходил небритый молодой человек в фуражке некогда белого цвета, теперь она была почти чёрная. На нём была только синяя рубашка и штаны, никакого пальто. Механик, который нёс штатив нашей камеры, рассказал мне, кто это такой. «Это немец, бывший военнопленный, ставший теперь коммунистом», и, как выразился наш помощник, несмотря на это, «он – человек Божий». Человек в фуражке находился в этом лагере с самого его первого дня. Он никогда его не покидает. «Я думаю, что он вообще никогда спит» – продолжал наш механик. «Он достаёт для этих страдальцев всё, что ему только удаётся получить. Он переболел всеми болезнями, и выжил. Именно благодаря этому человеку здесь такой порядок, нет столпотворения. Тысячи людей обязаны ему своей жизнью. Эх, если бы сюда ещё несколько таких, как он».
Только я хотел поговорить с этим немцем, стал пробирался к нему сквозь толпу, как тощий мальчонка потянул его за рукав, показывая на палатку позади него. Молодой человек пошёл вслед за малым, и скрылся в палатке. Когда же я проходил мимо этих тентов, даже не заходя в них, я внезапно ощутил запах испражнений. Приступ тошноты чуть не вывернул мой желудок, – ощущение такое, как будто я принял рвотное средство.
За те два дня, что мы пробыли в Самаре, мы увидели десятки таких сцен. Самара – только одно из сотен подобных мест. Люди пытаются спасти детей. У них нет средств, которые есть у других стран, и нам надо дать то, что мы должны дать. Но, к стыду человечества, есть в Западной Европе такие люди, которые настаивают на том, что делать этого не надо. Тут, за товарной станцией, разбит огромный лагерь из белых палаток, это военный лагерь красноармейцев, переданный армией в распоряжение беженцев. Беженцев больше, чем мест в палатках, они натянули ещё какие-то тенты, соорудили шалаши из всего, что было под рукой – из тряпок, веток деревьев, кусков старого железа, найденного около подъездных путей. На пустырях, позади кладбища, куда каждый день возят новые трупы («Сегодня утром привезли тридцать пять», – сказал нам человек, живущий в кладбищенской сторожке), и вдоль железнодорожных путей почти на километр тянутся небольшие бивуаки: там люди поджаривают кусочки тыквенных корок, конский навоз, кое-где – огрызки хлеба и листья капусты. Во всей этой огромной толпе каждый был жертвой голода, и если бы их мучал только голод, то это было бы не так страшно. Мы увидели, как от палатки к палатке ходил небритый молодой человек в фуражке некогда белого цвета, теперь она была почти чёрная. На нём была только синяя рубашка и штаны, никакого пальто. Механик, который нёс штатив нашей камеры, рассказал мне, кто это такой. «Это немец, бывший военнопленный, ставший теперь коммунистом», и, как выразился наш помощник, несмотря на это, «он – человек Божий». Человек в фуражке находился в этом лагере с самого его первого дня. Он никогда его не покидает. «Я думаю, что он вообще никогда спит» – продолжал наш механик. «Он достаёт для этих страдальцев всё, что ему только удаётся получить. Он переболел всеми болезнями, и выжил. Именно благодаря этому человеку здесь такой порядок, нет столпотворения. Тысячи людей обязаны ему своей жизнью. Эх, если бы сюда ещё несколько таких, как он».
Только я хотел поговорить с этим немцем, стал пробирался к нему сквозь толпу, как тощий мальчонка потянул его за рукав, показывая на палатку позади него. Молодой человек пошёл вслед за малым, и скрылся в палатке. Когда же я проходил мимо этих тентов, даже не заходя в них, я внезапно ощутил запах испражнений. Приступ тошноты чуть не вывернул мой желудок, – ощущение такое, как будто я принял рвотное средство.
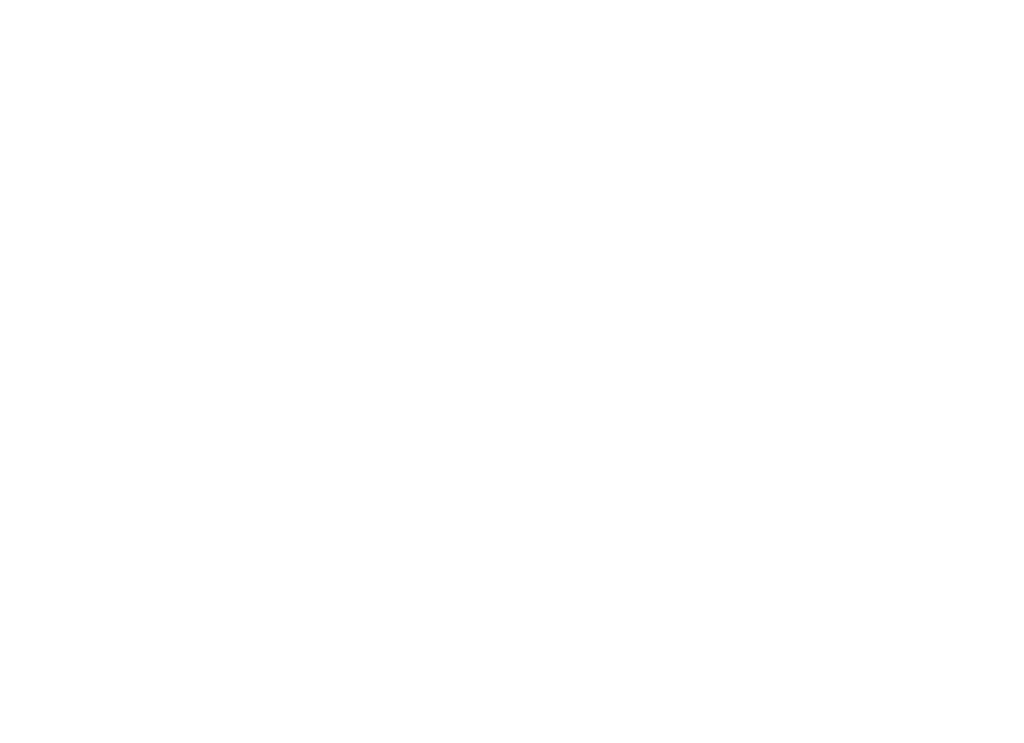
Кадр из кинохроники «Inside the Gates of Soviet Russia!», снятой Артуром Рэнсомом и Жоржем Эрколем в Самаре.
British Pathé
British Pathé
Я заметил, что около двух деревянных хибарок, стоящих посреди лагеря, собралась небольшая толпа. Я подошёл туда, и увидел, что это медицинский пункт, где пара врачей и две героические женщины, сами живущие в этом лагере, оказывали помощь людям, больным холерой и тифом. Замеченная мною толпа оказалась очередью на вакцинацию. Поначалу люди боялись уколов, но теперь их уже нетрудно убедить дать согласие хотя бы на эту меру предосторожности. Однако, увы, похоже, что нет той силы, которая заставила бы их блюсти чистоту. Две женщины вынесли из медпункта небольшой столик с медицинскими инструментами, накрытый скатёркой, и толпа, уже выстроившаяся в очередь, подалась вперёд. Я позвал Эрколя, и он установил камеру. Одна из сестер крикнула «Ого, вам сегодня повезло; тут тебе и вакцинация, и одновременно киносъёмка». И пока камера работала, те, кто стоял в задних рядах очереди, кричали тем, кто впереди, поскорее скидывать свои лохмотья и вакцинироваться по-шустрому, чтобы задние тоже успели появиться в кадре.
Там были старики и старухи, девушки и маленькие оборванные дети. Рубашка за рубашкой стаскивались с тощих тел, обнажая эти мешки с костями, испещренные укусами и отвратительными язвами, следами всевозможных болезней. И, каким бы ужасным ни было их состояние, почти все они проявляли интерес к камере. А я не мог избавиться от мысли, что многие из них завершат свой земной путь раньше, чем наша плёнка будет проявлена. Да, многие из них покинут лагерь, и понесут их ногами вперёд по дороге на то самое кладбище, где виднелись кучи сырой земли, и выстраивались ряды новых могил.
Там были старики и старухи, девушки и маленькие оборванные дети. Рубашка за рубашкой стаскивались с тощих тел, обнажая эти мешки с костями, испещренные укусами и отвратительными язвами, следами всевозможных болезней. И, каким бы ужасным ни было их состояние, почти все они проявляли интерес к камере. А я не мог избавиться от мысли, что многие из них завершат свой земной путь раньше, чем наша плёнка будет проявлена. Да, многие из них покинут лагерь, и понесут их ногами вперёд по дороге на то самое кладбище, где виднелись кучи сырой земли, и выстраивались ряды новых могил.
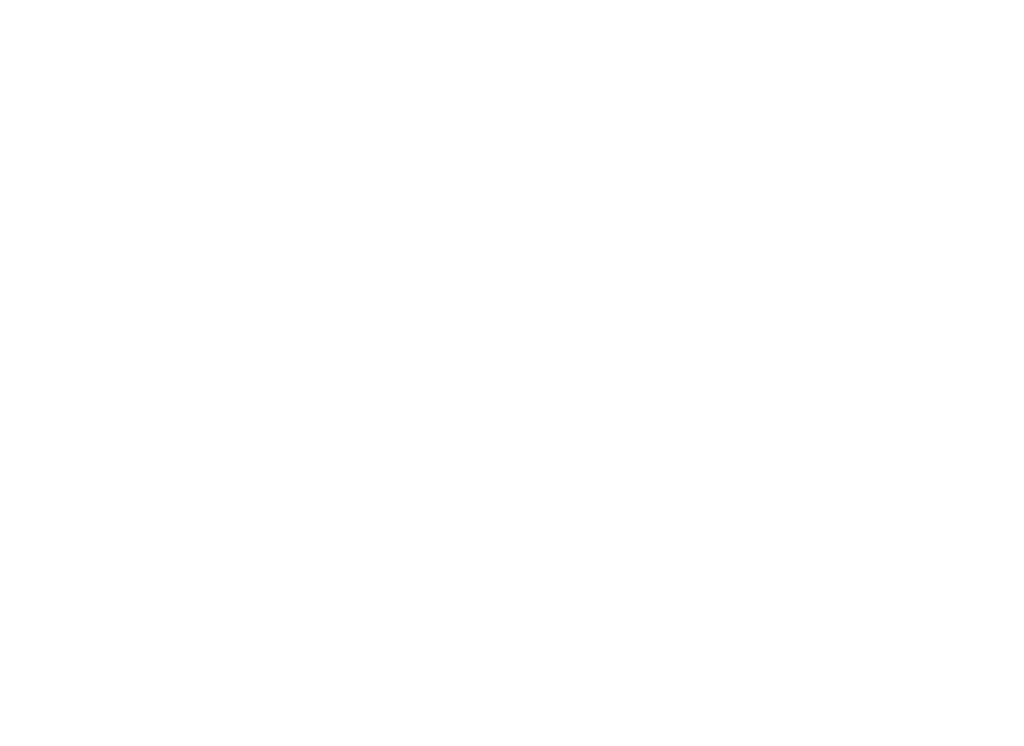
Кадр из кинохроники «Inside the Gates of Soviet Russia!», снятой Артуром Рэнсомом и Жоржем Эрколем в Самаре.
British Pathé
British Pathé
Сразу за лагерем, на подъездной ветке, стоит состав с беженцами. Это что-то вроде передвижной деревни, населённой людьми, которые, по большей части, находятся в несколько лучшем положении, чем крестьяне, бегущие от голода. Жители железнодорожных теплушек – часть того потока несчастных, бежавших в 1915 и 1916 годах от войны. Они тогда ушли из западной части Российской империи на восток. Пожив какое-то время восточных губерниях страны, люди снова в пути – на запад, и на этот раз их подгоняет бич голода. Чтобы понять всю сложность ситуации в Самаре, необходимо вспомнить о существовании и этой проблемы: эти люди возвращаются в западные районы России, или даже в новые государства, чьими гражданами они теперь являются. У них есть преимущественное право на передвижение на транспорте, а при нынешнем состоянии российских железных дорог, перемещение этих людей на запад ещё больше снижает возможность перевозки непосредственных жертв засухи. Я прошел от одного конца состава до другого. Это вагоны для скота, но выглядят они почти как хижины на колесах, потому что в каждом из них живёт определенная группа беженцев, в каждом – своего рода семейная жизнь. Эти люди везут с собой свой нехитрый скарб, кровати, постельные принадлежности, комоды, ржавые швейные машинки, тряпичные куклы. Я упомянул лишь несколько предметов, которые мне довелось увидеть. Во многих вагонах я видел по три или четыре поколения одной семьи – старик, его древняя мать, стремящиеся вернуться в деревню, которую они в последний раз видели в огне, поскольку она была подожжена отступающей армией. Как они говорят, они просто хотят «умереть дома». С ними же едут и их дети, внук, его жена (он женился уже в этих краях). Часто видишь, что семьи потеряли всё, но сохранили самовар, главный символ дома, своего рода очаг этих кочевников; я даже видел людей, лежащих на платформе, а рядом с ними стоял кипящий самовар, который, быть может, приехал с западных окраин Варшавы, съездил в Сибирь, и теперь возвращается обратно.
В дверях одной теплушки я увидел маленького мальчика, – в Англии вы не найдёте таких худых детей. В руке он держал деревянную клетку, в которой сидела белая мышь, упитанная, гладкая, довольная, она выглядела лучше, чем любое другое живое существо во всём этом поезде. На платформе возле мальчика стояли мужчина и его жена. Я спросил их, куда они держат путь. «В Минск, – сказал мужчина, – те из нас, кто ещё жив, едут туда; дети умирают каждый день». Я оглянулся на маленького мальчика, греющего свою мышку на солнышке. По крайней мере, мышь останется живой до конца путешествия.
В дверях одной теплушки я увидел маленького мальчика, – в Англии вы не найдёте таких худых детей. В руке он держал деревянную клетку, в которой сидела белая мышь, упитанная, гладкая, довольная, она выглядела лучше, чем любое другое живое существо во всём этом поезде. На платформе возле мальчика стояли мужчина и его жена. Я спросил их, куда они держат путь. «В Минск, – сказал мужчина, – те из нас, кто ещё жив, едут туда; дети умирают каждый день». Я оглянулся на маленького мальчика, греющего свою мышку на солнышке. По крайней мере, мышь останется живой до конца путешествия.
ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ