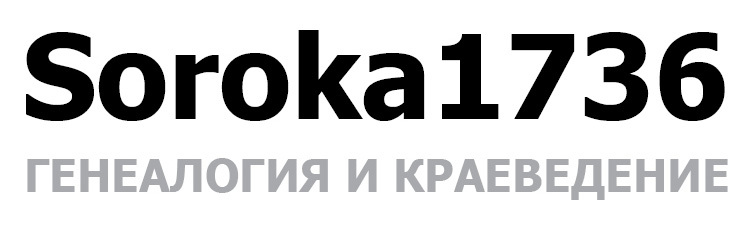март 2025 года
Разгадка тайны Сидни Коффа.
Духовная пища в голодном Бузулуке
Духовная пища в голодном Бузулуке
В 2010 году в здании Самарской епархии архиепископ Самарский и Сызранский открыл выставку акварелей и рисунков британского квакера Ричарда Килби. «Наши братья по вере — говорил на открытии выставки священнослужитель — спасли сотни тысяч россиян, не дав умереть им от голода». Мистер Килби, двадцатичетырёхлетний юноша, работал в составе Английской группы ОДК (Общество Друзей – квакеров) в Бузулуке в голодные 1922-1923 годы.
Художник-любитель, Ричард заполнил свой альбом акварелями бузулукских пейзажей и карандашными портретами тех, кто работал рядом с ним, кто спасал от голода наших соотечественников. Некоторые портреты имели пояснительные подписи: имена тех, кто был изображён на бумаге. На одном из таких карандашных эскизов был нарисован лысоватый мужчина в очках, в пиджаке с галстуком. Подпись на обороте сообщала: «Сидни Кофф, известный скрипач, работавший на одном из складов Бузулука». Ни в одном архиве, ни в едином документе мне никогда не встречалось такое имя квакерского работника — Сидни Коффа. Загадочный скрипач, кто же он такой?
Художник-любитель, Ричард заполнил свой альбом акварелями бузулукских пейзажей и карандашными портретами тех, кто работал рядом с ним, кто спасал от голода наших соотечественников. Некоторые портреты имели пояснительные подписи: имена тех, кто был изображён на бумаге. На одном из таких карандашных эскизов был нарисован лысоватый мужчина в очках, в пиджаке с галстуком. Подпись на обороте сообщала: «Сидни Кофф, известный скрипач, работавший на одном из складов Бузулука». Ни в одном архиве, ни в едином документе мне никогда не встречалось такое имя квакерского работника — Сидни Коффа. Загадочный скрипач, кто же он такой?
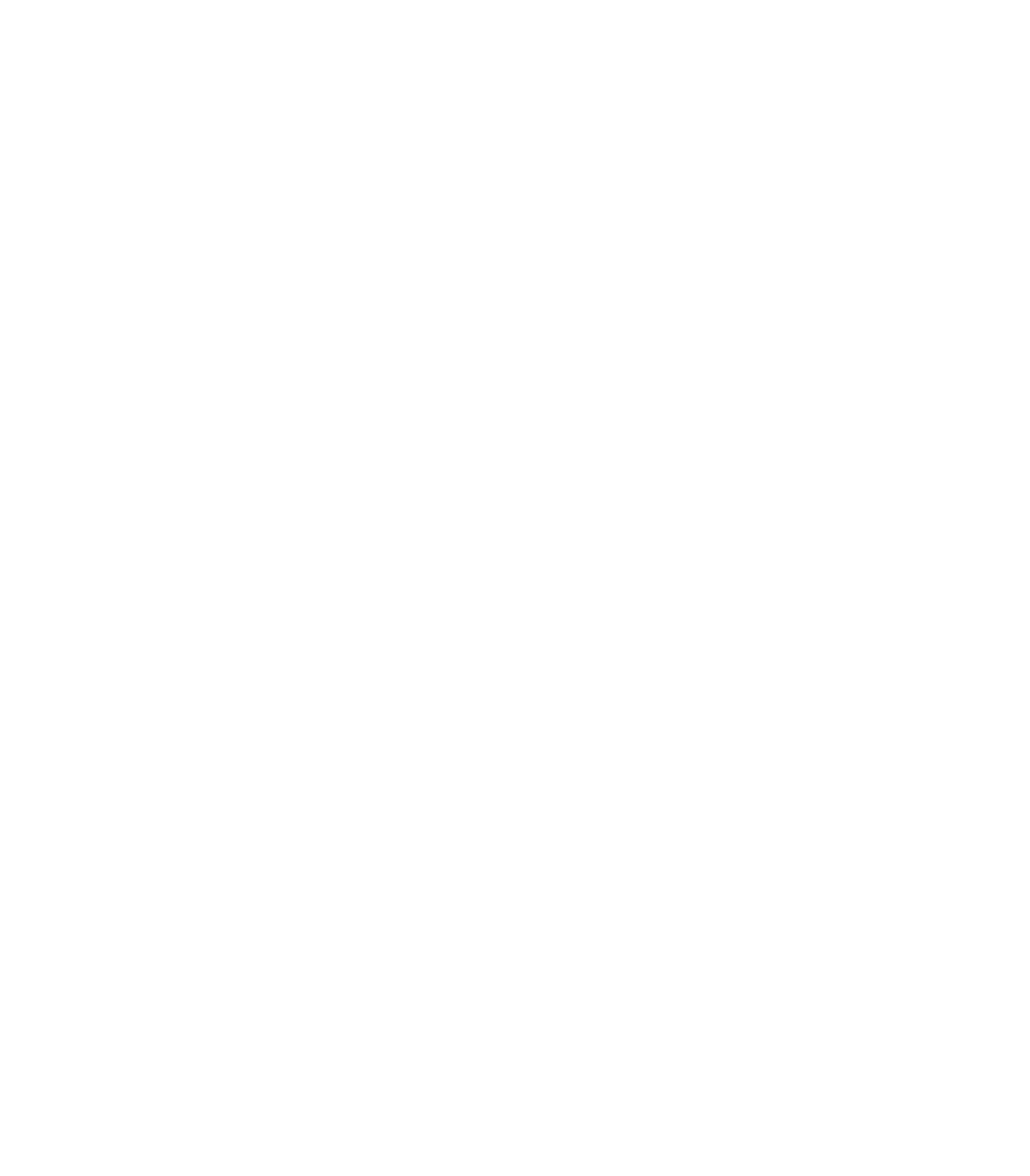
Рисунок Ричарда Килби.
На обороте его рукой написано «Sidney Koff, famous violinist who worked in one of the Buzuluk warehouses».
(Сидни Кофф, известный скрипач, который работал на одном из бузулукских складов)
На обороте его рукой написано «Sidney Koff, famous violinist who worked in one of the Buzuluk warehouses».
(Сидни Кофф, известный скрипач, который работал на одном из бузулукских складов)
Разгадку дал Андрей Митин, который вместе с Надеждой Федотовой вот уже много лет занимается исследованием истории Бузулукского края. Он любезно поделился со мной перепиской одного бузулукского музыканта с московским композитором, музыкальным теоретиком, дирижёром и педагогом Александром Алексеевичем Шеншиным: два письма, датированных 1922 и 1923 годами, были подписаны: А. Г. Ситников.
Андрей Митин справедливо указал на то, что никакого Сидни Коффа никогда не существовало: англичанин Ричард Килби на слух записал фамилию бузулукского музыканта Ситникова так, как ему услышалось. Ситников — это и есть Сидни Кофф!
Андрей Митин справедливо указал на то, что никакого Сидни Коффа никогда не существовало: англичанин Ричард Килби на слух записал фамилию бузулукского музыканта Ситникова так, как ему услышалось. Ситников — это и есть Сидни Кофф!
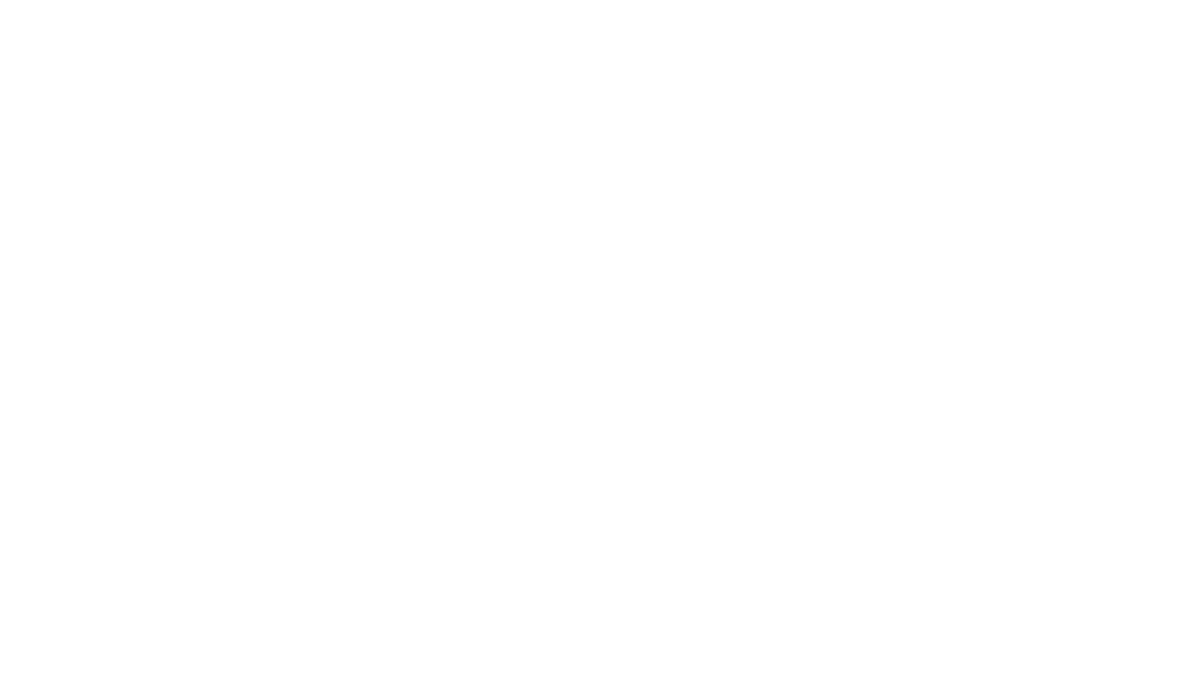
Слева – рисунок Ричарда Килби. Справа – фото Александра Гавриловича Ситникова, 1911 года, предоставленное его внуком Андреем Петровичем Ситниковым (г. Казань)
Александр Гаврилович Ситников, уроженец Бузулука, музыкант и просветитель, закончивший в 1912 году Казанское музыкальное училище бывшего Русского Музыкального Общества по классу скрипки, в голодные годы оказался в Бузулуке. Свою просветительскую деятельность в родном городе Ситников начал основываясь на знаниях, полученных в 1919 году в Москве – на курсах по общему музыкальному образованию, которые там вёл Александр Шеншин. Ситников, вернувшийся в Бузулук из Ташкента (где он чуть не умер от малярии), смог устроиться завхозом в детский дом, но проработал там всего два с половиной месяца, после чего ему повезло. Скрипач Александр Гаврилович в свои 38 лет смог устроиться рабочим на склад ОДК, где ему приходилось таскать многопудовые мешки с рисом и фасолью — разгружать продукты из вагонов в пакгауз. Вот там-то он и познакомился с англичанами, которые дали ему возможность вновь заняться музыкой. Заведующим складом был англичанин Джон Хуберт Броклсби, которого все в Бузулуке звали Иван Иванович, хотя дома родные звали его Берт. В отличие от своих трёх братьев, Джон был сознательным отказчиком, не брал в руки оружие, а пошёл работать к квакерам, которые в военные годы помогали гражданскому населению во многих странах Европы. В Бузулук Джон – Иван Иванович приехал со своим младшим братом Гарольдом, оба служили в квакерском подразделении в Бузулке. Как многие англичане, оба брата музицировали, что очень обрадовало грузчика-скрипача Ситникова.
Как оказалось, среди квакеров оказались ещё музыканты – любители, и русскому энтузиасту музыкального просвещения удалось их заинтересовать в новом деле.
Как оказалось, среди квакеров оказались ещё музыканты – любители, и русскому энтузиасту музыкального просвещения удалось их заинтересовать в новом деле.
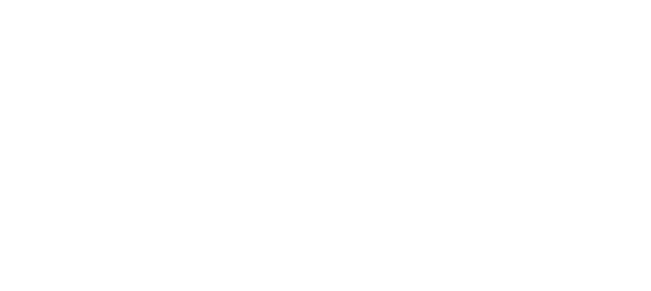
Семья Броклсби. Гарольд первый слева во втором ряду, Джон – второй справа
Именно тогда Александр Гаврилович решил, с помощью англичан, провести несколько музыкальных вечеров в рамках просветительской деятельности. Начали с частных музыкальных встреч в квартире ОДК, а потом эти мероприятия стали публичными.
Сначала решили устраивать такие концерты только для учащихся. Связались с местным с рабфаком и устроили первый вечер, на котором Ситников прочёл небольшую лекцию о зарождении и развитии музыки, с обширными цитатами из Аристотеля, Гёте, Бетховена, Лютера, Толстого и других. Ситников писал Шеншину, что вечер имел успех у слушателей. Но не все были столь благосклонны к инициативе бузулукского музыканта. Местная газета обрушилась на Ситникова с критикой за «немарксистское объяснение развития музыки». Александра Гавриловича в газете назвали «рутинёром, невеждой и развратителем молодёжи». За критикой последовало распоряжение о прекращении вечеров на рабфаке. Но Ситников со своими друзьями решили устраивать публичные, теперь уже платные вечера для всех желающих, назначив минимальные цены, — чтобы только покрыть расходы на афиши, билеты и освещение. К счастью, исполком любезно предоставил зал с хорошей акустикой и концертным роялем Блюттнера. Весь сбор с вечеров поступал в пользу детских домов города.
Во избежание обвинения отхода от марксистской линии, Александр Гаврилович решил в своих объяснениях давать только «краткие биографические сведения о композиторах, характеристику их творчества и пояснение исполняемых пьес как со стороны их технического строения — формы, так и, насколько возможно, самого содержания пьес, чтобы облегчить слушателям восприятие пьес, которые прозвучали в Бузулуке впервые». Мероприятия пошли одно за другим. Однако Ситников справедливо понимал, что будущее благородного начинания зависит от того, сколько времени пробудет в Бузулуке миссия ОДК, ибо с их отъездом это всё, скорее всего, кончится. Во-первых, из квакерского коллектива в концертах участвовало трое: Джон и Гарольд Броклсби и ещё Эрнест Килби, — младший брат художника Ричарда Килби. А во-вторых, у квакеров был авторитет в Бузулуке, и для местных властей тоже.
Но тут пришла новая напасть: начальник уездного отдела народного образования (УОНО) тов. Задульский прямо в лицо заявил Ситникову, что считает музыкальные вечера излишней роскошью. Более того, этот работник советского просвещения стал совать палки в колёса: он запретил местной библиотеке выдавать ноты Ситникову. К счастью, на тот момент авторитет английских квакеров был ещё настолько высок, что для того, чтобы получить ноты, Ситникову пришлось через ОДК обратиться к содействию Исполкома, который на тот момент ещё давал помещение и инструмент для музыкальных вечеров. В концертах кроме Ситникова и его жены принимали участие музыканты-любители из состава миссии ОДК. Однако УОНО упорствовал и вскоре наложил запрет на концерты по той причине, «что вечера посещает только учительство». На помощь пришёл Бузулукский рабочий клуб, но и то — после некоторых пререканий о «немарксистском» подходе и «непролетарской музыке». А. Ситников сокрушался в своих письмах, что помещение в клубе — «бывший магазин; рояль — немного лучше балалайки, а главное — холодно». Но всё уладили, рояль привели в порядок, насколько возможно — дело снова пошло. Теперь в программу вечеров должны были войти ещё Вагнер, Лист, Брамс, французские и скандинавские композиторы и современные русские, но ввиду срочного отъезда Джона Броклсби (пианист и виолончелист), пришлось программу сократить и современных русских композиторов играть лишь по нескольку в вечер. К счастью, заведующий клубом очень заинтересовался этими вечерами и даже просил устраивать их почаще («раз в неделю обязательно»)!
Сначала решили устраивать такие концерты только для учащихся. Связались с местным с рабфаком и устроили первый вечер, на котором Ситников прочёл небольшую лекцию о зарождении и развитии музыки, с обширными цитатами из Аристотеля, Гёте, Бетховена, Лютера, Толстого и других. Ситников писал Шеншину, что вечер имел успех у слушателей. Но не все были столь благосклонны к инициативе бузулукского музыканта. Местная газета обрушилась на Ситникова с критикой за «немарксистское объяснение развития музыки». Александра Гавриловича в газете назвали «рутинёром, невеждой и развратителем молодёжи». За критикой последовало распоряжение о прекращении вечеров на рабфаке. Но Ситников со своими друзьями решили устраивать публичные, теперь уже платные вечера для всех желающих, назначив минимальные цены, — чтобы только покрыть расходы на афиши, билеты и освещение. К счастью, исполком любезно предоставил зал с хорошей акустикой и концертным роялем Блюттнера. Весь сбор с вечеров поступал в пользу детских домов города.
Во избежание обвинения отхода от марксистской линии, Александр Гаврилович решил в своих объяснениях давать только «краткие биографические сведения о композиторах, характеристику их творчества и пояснение исполняемых пьес как со стороны их технического строения — формы, так и, насколько возможно, самого содержания пьес, чтобы облегчить слушателям восприятие пьес, которые прозвучали в Бузулуке впервые». Мероприятия пошли одно за другим. Однако Ситников справедливо понимал, что будущее благородного начинания зависит от того, сколько времени пробудет в Бузулуке миссия ОДК, ибо с их отъездом это всё, скорее всего, кончится. Во-первых, из квакерского коллектива в концертах участвовало трое: Джон и Гарольд Броклсби и ещё Эрнест Килби, — младший брат художника Ричарда Килби. А во-вторых, у квакеров был авторитет в Бузулуке, и для местных властей тоже.
Но тут пришла новая напасть: начальник уездного отдела народного образования (УОНО) тов. Задульский прямо в лицо заявил Ситникову, что считает музыкальные вечера излишней роскошью. Более того, этот работник советского просвещения стал совать палки в колёса: он запретил местной библиотеке выдавать ноты Ситникову. К счастью, на тот момент авторитет английских квакеров был ещё настолько высок, что для того, чтобы получить ноты, Ситникову пришлось через ОДК обратиться к содействию Исполкома, который на тот момент ещё давал помещение и инструмент для музыкальных вечеров. В концертах кроме Ситникова и его жены принимали участие музыканты-любители из состава миссии ОДК. Однако УОНО упорствовал и вскоре наложил запрет на концерты по той причине, «что вечера посещает только учительство». На помощь пришёл Бузулукский рабочий клуб, но и то — после некоторых пререканий о «немарксистском» подходе и «непролетарской музыке». А. Ситников сокрушался в своих письмах, что помещение в клубе — «бывший магазин; рояль — немного лучше балалайки, а главное — холодно». Но всё уладили, рояль привели в порядок, насколько возможно — дело снова пошло. Теперь в программу вечеров должны были войти ещё Вагнер, Лист, Брамс, французские и скандинавские композиторы и современные русские, но ввиду срочного отъезда Джона Броклсби (пианист и виолончелист), пришлось программу сократить и современных русских композиторов играть лишь по нескольку в вечер. К счастью, заведующий клубом очень заинтересовался этими вечерами и даже просил устраивать их почаще («раз в неделю обязательно»)!
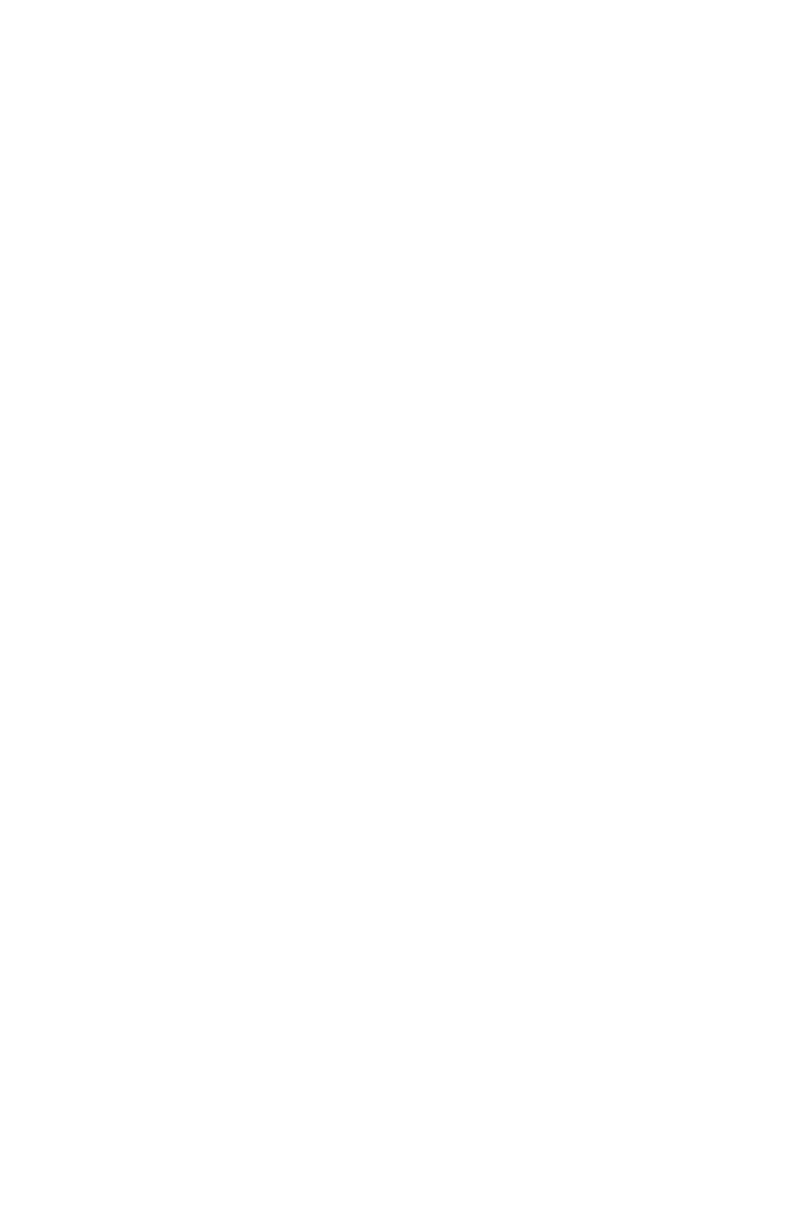
С октября 1922 года по март 1923 Ситников и его соратники провели двенадцать вечеров инструментальной музыки в Бузулуке, на каждом было от 150 до 320 слушателей. Исполнителями были (согласно печатной афише) «И.И. Броклсби (фортепиано и виолончель), А.М. Ситникова (фортепиано), А.Г. Ситников (скрипка и объяснения), Г.И. Броклсби (альт), Э. Кильби и И.А. Еремин (2-я скрипка в квартете)». Однако вскоре квакеры уехали, сам Александр Гаврилович Ситников с женой тоже покинул Бузулук, и музыкально-образовательные концерты исчезли с афиш Бузулука.
Андрей Митин, Надежда Федотова
Александр Гаврилович Ситников родился в Бузулуке 27 сентября 1884 года (по старому стилю), умер в Казани в 1942 году. Семья Ситниковых, чьи предки жили в Бузулуке с 1807 года, была многочисленной и вполне состоятельной. Александр Гаврилович, окончивший Казанское музыкальное училище по классу скрипки, стал профессиональным скрипачом. Его жена, Александра Михайловна (дочь священника Бузулукского Тихвинского женского монастыря Михаила Михайловича Малиновского), училась в Петроградской консерватории и была пианисткой. В 1923 году Ситниковы уехали из Бузулука в Казань, где впоследствии Александр Гаврилович играл в оркестре Казанского театра, затем работал в оркестрах Радиокомитета и Татарской филармонии. Дети музыкантов Ситниковых, Нина Александровна Порфирьева (25.11.1920, Бузулук — 2014, Казань) и Пётр Александрович Ситников (1924-1974), стали выдающимися учёными-биологами.
О музыкальной работе Александра Гавриловича в Бузулуке вспоминал один из организаторов системы народного образования 1920-х годов Иван Артемьевич Попов. Его рассказ опубликован в книге «Бузулук первой половины XX века в воспоминаниях».
Публикуемая статья основана на выявленных нами в фондах Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ. Ф.1964. Оп.1. Д.180. Письма Ситникова А.Г. Шеншину А.А.) письмах Александра Гавриловича Ситникова в Москву к своему наставнику Александру Алексеевичу Шеншину.
Публикуем одно из хранящихся в РГАЛИ писем:
«Глубокоуважаемый Александр Алексеевич!
Прежде всего сердечно благодарю Вас за Ваше письмо, которое поддержало и укрепило меня, так как перед Вашим письмом мне пришлось пережить неприятности с начальством. Но теперь, несмотря на все препятствия и огорчения, я все же могу сказать: «Ныне отпущаеши…», так как, хотя и не совсем полно, но все же удалось провести большую дело, о котором я мечтал давно.
Одним из главных толчков к проведению этого дела была моя работа под Вашим руководством на курсах 1919 года в Москве. Теперь пишу Вам, как было дело.
Спасаясь в зиму черного голодного года, я попал в Ташкент, где прожил зиму и едва не умер от малярии. Приехал полуживой в Бузулук и, оправившись от болезни, поступил завхозом в детский дом, но пробыл там недолго – два с половиной месяца, а затем был уволен как «не специалист». И если бы я не был уволен, то всё равно бы не остался дольше в кошмарной обстановке работы детского дома.
Я по уходе из детдома поступил рабочим в склад Общества Друзей Квакеров, где таскал иногда 5 и 6 пудовые мешки с рисом и фасолью из вагонов в пакгауз, познакомился с любителями-музыкантами англичанами, которые дали мне вновь возможность заняться музыкой. И вот тогда - то я решил с их помощью провести ряд музыкальных вечеров в историческом порядке.
Первоначально решено было устраивать эти вечера только для учащихся. Вошли в соглашении с Рабфаком и устроили первый вечер, на котором я, в виде вступление, прочел кратко о зарождении и развитии музыки, причем привел несколько цитат, в том числе Аристотеля, Гёте, Бетховена, Лютера, Толстого и других. Вечер имел успех у слушателей, но зато в местной газете меня разделали, как говорится, под орех, за немарксистской объяснение развитие музыки, обозвав меня рутинером, невеждой и развратителем молодежи. Конечно последовало распоряжение о прекращении вечеров в Рабфаке, да и сам я не смог бы продолжать там после такого выпада. Тогда решили (и оказалось, к лучшему) устраивать публичные, платные вечера для всех желающих, назначив минимальные цены, чтобы только покрыть расходы на афиши, билеты и освещение.
Исполком любезно предоставил зало с хорошей акустикой и концертным роялем Блютнера, весь сбор с вечеров поступал в пользу детских домов города. Я решил в своих объяснениях давать только краткие биографические сведения о композиторах, характеристику творчества и пояснение исполняемых пьес как со стороны их технического строения-формы так и, насколько возможно, самого содержания, чтобы облегчить слушателям восприятие пьес, которые в Бузулуке прозвучали впервые. И вот, казалось, дело пошло.
Параллельно с этим, для упорядочения пения в детских домах города, были организованы четырёхмесячные курсы по подготовке из воспитателей дет.домов руководителей детского пения. Курсы проведены мною с моей женой, которая была руководительницей игры на фортепиано. Вначале всё пошло гладко, но вот явился новый заведующей УОНО (уездным отделом народного образования) Задульский, и сразу всё изменилось. Прежде всего он нашел эти вечера «ненужной роскошью», хотя ОНО не затратило на них ни одного рубля, а наоборот каждого вечера получало от 80 до 100 рублей для детских домов. И когда мне понадобились из библиотеки бывшей Народной музыкальной школы ноты, и я обратился с просьбой о выдаче мне их на время, то получил отказ (до этого мне таких отказов не было).
Затем уже были расклеены афиши о седьмом вечере, но перед вечером из ОНО сообщили, что он не состоится и что вообще о дальнейших вечерах будет особое суждение. На вопрос, чем это вызвано, последовал ответ, что вечера посещает только учительство. Стали искать выход. Предложили свои услуги Рабочему клубу, и после некоторых пререканий о «немарксистском» подходе и «непролетарской» музыке, нашли себе прибежище в Клубе. Ну какое помещение: зало - бывший магазин, рояль - немного лучше балалайки, а главное – холодно. Но все уладили, рояль привели в порядок, насколько возможно – подтопили, и вот добрались до конца.
Первоначальный проект был значительно шире. В программу вечеров должны были войти еще Вагнер, Лист, Брамс, французские и скандинавские композиторы, и гораздо полнее современные русские. Но ввиду срочного отъезда И.И. Брокльсби (пианист и виолончелист) пришлось программу сократить и современных русских композиторов показывать по нескольку в вечер. И, как назло, заведующий клубом очень заинтересовался этими вечерами и просит побольше их устраивать («раз в неделю обязательно…»). О последних вечерах и рецензии стали более доброжелательны. Перед последним вечером устроили анкету среди наших слушателей и 9 или 10 апреля устраиваем вечер из произведений по выбору публики. Больше всего получили голосов «Крейцерова» (не без влияния Толстого) и «Лунная» сонаты Бетховена, «Баркаролла» Чайковского, «Славянский квартет» Глазунова, траурный марш и ноктюрн Шопена и другие небольшие пьесы. Между прочим, «Дьявольская» соната Тартини, хотя и не была помечена в анкете, собрала 27 голосов. Это очень интересно. А что бы Вам в Москве устроить такую анкету?
О музыкальной работе Александра Гавриловича в Бузулуке вспоминал один из организаторов системы народного образования 1920-х годов Иван Артемьевич Попов. Его рассказ опубликован в книге «Бузулук первой половины XX века в воспоминаниях».
Публикуемая статья основана на выявленных нами в фондах Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ. Ф.1964. Оп.1. Д.180. Письма Ситникова А.Г. Шеншину А.А.) письмах Александра Гавриловича Ситникова в Москву к своему наставнику Александру Алексеевичу Шеншину.
Публикуем одно из хранящихся в РГАЛИ писем:
«Глубокоуважаемый Александр Алексеевич!
Прежде всего сердечно благодарю Вас за Ваше письмо, которое поддержало и укрепило меня, так как перед Вашим письмом мне пришлось пережить неприятности с начальством. Но теперь, несмотря на все препятствия и огорчения, я все же могу сказать: «Ныне отпущаеши…», так как, хотя и не совсем полно, но все же удалось провести большую дело, о котором я мечтал давно.
Одним из главных толчков к проведению этого дела была моя работа под Вашим руководством на курсах 1919 года в Москве. Теперь пишу Вам, как было дело.
Спасаясь в зиму черного голодного года, я попал в Ташкент, где прожил зиму и едва не умер от малярии. Приехал полуживой в Бузулук и, оправившись от болезни, поступил завхозом в детский дом, но пробыл там недолго – два с половиной месяца, а затем был уволен как «не специалист». И если бы я не был уволен, то всё равно бы не остался дольше в кошмарной обстановке работы детского дома.
Я по уходе из детдома поступил рабочим в склад Общества Друзей Квакеров, где таскал иногда 5 и 6 пудовые мешки с рисом и фасолью из вагонов в пакгауз, познакомился с любителями-музыкантами англичанами, которые дали мне вновь возможность заняться музыкой. И вот тогда - то я решил с их помощью провести ряд музыкальных вечеров в историческом порядке.
Первоначально решено было устраивать эти вечера только для учащихся. Вошли в соглашении с Рабфаком и устроили первый вечер, на котором я, в виде вступление, прочел кратко о зарождении и развитии музыки, причем привел несколько цитат, в том числе Аристотеля, Гёте, Бетховена, Лютера, Толстого и других. Вечер имел успех у слушателей, но зато в местной газете меня разделали, как говорится, под орех, за немарксистской объяснение развитие музыки, обозвав меня рутинером, невеждой и развратителем молодежи. Конечно последовало распоряжение о прекращении вечеров в Рабфаке, да и сам я не смог бы продолжать там после такого выпада. Тогда решили (и оказалось, к лучшему) устраивать публичные, платные вечера для всех желающих, назначив минимальные цены, чтобы только покрыть расходы на афиши, билеты и освещение.
Исполком любезно предоставил зало с хорошей акустикой и концертным роялем Блютнера, весь сбор с вечеров поступал в пользу детских домов города. Я решил в своих объяснениях давать только краткие биографические сведения о композиторах, характеристику творчества и пояснение исполняемых пьес как со стороны их технического строения-формы так и, насколько возможно, самого содержания, чтобы облегчить слушателям восприятие пьес, которые в Бузулуке прозвучали впервые. И вот, казалось, дело пошло.
Параллельно с этим, для упорядочения пения в детских домах города, были организованы четырёхмесячные курсы по подготовке из воспитателей дет.домов руководителей детского пения. Курсы проведены мною с моей женой, которая была руководительницей игры на фортепиано. Вначале всё пошло гладко, но вот явился новый заведующей УОНО (уездным отделом народного образования) Задульский, и сразу всё изменилось. Прежде всего он нашел эти вечера «ненужной роскошью», хотя ОНО не затратило на них ни одного рубля, а наоборот каждого вечера получало от 80 до 100 рублей для детских домов. И когда мне понадобились из библиотеки бывшей Народной музыкальной школы ноты, и я обратился с просьбой о выдаче мне их на время, то получил отказ (до этого мне таких отказов не было).
Затем уже были расклеены афиши о седьмом вечере, но перед вечером из ОНО сообщили, что он не состоится и что вообще о дальнейших вечерах будет особое суждение. На вопрос, чем это вызвано, последовал ответ, что вечера посещает только учительство. Стали искать выход. Предложили свои услуги Рабочему клубу, и после некоторых пререканий о «немарксистском» подходе и «непролетарской» музыке, нашли себе прибежище в Клубе. Ну какое помещение: зало - бывший магазин, рояль - немного лучше балалайки, а главное – холодно. Но все уладили, рояль привели в порядок, насколько возможно – подтопили, и вот добрались до конца.
Первоначальный проект был значительно шире. В программу вечеров должны были войти еще Вагнер, Лист, Брамс, французские и скандинавские композиторы, и гораздо полнее современные русские. Но ввиду срочного отъезда И.И. Брокльсби (пианист и виолончелист) пришлось программу сократить и современных русских композиторов показывать по нескольку в вечер. И, как назло, заведующий клубом очень заинтересовался этими вечерами и просит побольше их устраивать («раз в неделю обязательно…»). О последних вечерах и рецензии стали более доброжелательны. Перед последним вечером устроили анкету среди наших слушателей и 9 или 10 апреля устраиваем вечер из произведений по выбору публики. Больше всего получили голосов «Крейцерова» (не без влияния Толстого) и «Лунная» сонаты Бетховена, «Баркаролла» Чайковского, «Славянский квартет» Глазунова, траурный марш и ноктюрн Шопена и другие небольшие пьесы. Между прочим, «Дьявольская» соната Тартини, хотя и не была помечена в анкете, собрала 27 голосов. Это очень интересно. А что бы Вам в Москве устроить такую анкету?
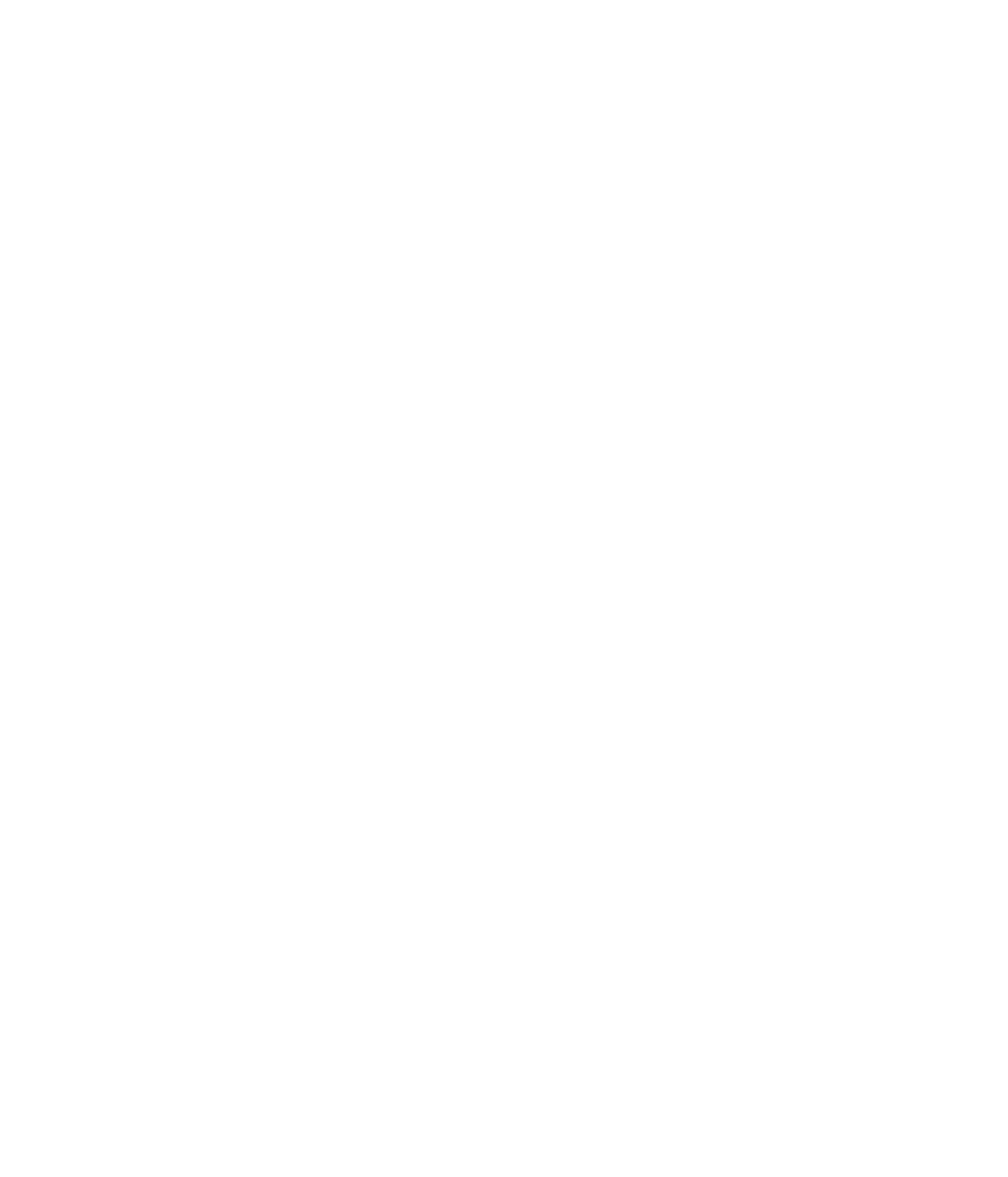
К сожалению, не все дали ответы. Многие оставили список пьес себе, «на память», как потом мне передавали.
На лето подумываю об отъезде в большой город. Так как в Бузулуке работы мне не будет, да и хочется ещё поработать над собой. Может быть, удастся поучиться еще, пока есть силы и желание. Сейчас я работаю по пению в педагогическом техникуме и взял на себя руководство хоровым кружком в Рабочем клубе. Благодаря вашему любезному содействие, получил кое - что нового из Госиздата для хора и фортепиано.
В заключение приношу Вам поздравление с наступающим праздником и очень, очень благодарю за Ваше внимание на которые надеюсь и в будущем. Желаю вам здоровья и успехов в делах. Шлю Вам афишу нашего вечера, программу всех вечеров, анкетный листок и сведения о посещаемости вечеров. Ещё раз спасибо Вам. Не забывайте глубоко уважающего Вас А. Ситникова.
30 марта 1923 года
Мой адрес: Самарская губерния, г. Бузулук, ул. Набережная, дом 4».
Программа первого вечера инструментальной музыки, состоявшегося 14 ноября 1922 года.
1.Вступительное слово о происхождении и развитии музыки.
2.Музыкальная часть. Песни эскимосов, алеутов, китайские («жасмин»), греческие («sirtos»), индейские, индусские, персидские, дикарей Новой Зеландии, полинезийцев и пляска жителей Марианских островов – для скрипки и фортепиано, по материалам Московской этнографической комиссии.
В. Бёрд. Прелюдия и тема с вариациями (фортепиано);
Фрескобальди. Кануона (фортепиано);
Луи Куперен. La preciosa (скрипка и фортепиано);
Ф. Куперен. La Fleurie ou la tandre Nanelle (фортепиано);
Пешетти. Presto (фортепиано);
Люлли. Гавот (скрипка и фортепиано);
Джон (1680-1740). Соната для скрипки с фортепиано.
Сведения о посещаемости вечеров инструментальной музыки в г. Бузулуке.
На первых шести вечерах сведения приблизительные, а на остальных более точные (по билетам). Совершенно точных сведений не удалось получить, так как бесплатные посетители на первых вечерах не поддавались учёту. Бесплатных посетителей было на втором-восьмом вечерах от четверти до трети общего количества, а на последних вечерах почти наполовину. Преобладающее количество посетителей – учащиеся, учащие, служащие и врачи.
На лето подумываю об отъезде в большой город. Так как в Бузулуке работы мне не будет, да и хочется ещё поработать над собой. Может быть, удастся поучиться еще, пока есть силы и желание. Сейчас я работаю по пению в педагогическом техникуме и взял на себя руководство хоровым кружком в Рабочем клубе. Благодаря вашему любезному содействие, получил кое - что нового из Госиздата для хора и фортепиано.
В заключение приношу Вам поздравление с наступающим праздником и очень, очень благодарю за Ваше внимание на которые надеюсь и в будущем. Желаю вам здоровья и успехов в делах. Шлю Вам афишу нашего вечера, программу всех вечеров, анкетный листок и сведения о посещаемости вечеров. Ещё раз спасибо Вам. Не забывайте глубоко уважающего Вас А. Ситникова.
30 марта 1923 года
Мой адрес: Самарская губерния, г. Бузулук, ул. Набережная, дом 4».
Программа первого вечера инструментальной музыки, состоявшегося 14 ноября 1922 года.
1.Вступительное слово о происхождении и развитии музыки.
2.Музыкальная часть. Песни эскимосов, алеутов, китайские («жасмин»), греческие («sirtos»), индейские, индусские, персидские, дикарей Новой Зеландии, полинезийцев и пляска жителей Марианских островов – для скрипки и фортепиано, по материалам Московской этнографической комиссии.
В. Бёрд. Прелюдия и тема с вариациями (фортепиано);
Фрескобальди. Кануона (фортепиано);
Луи Куперен. La preciosa (скрипка и фортепиано);
Ф. Куперен. La Fleurie ou la tandre Nanelle (фортепиано);
Пешетти. Presto (фортепиано);
Люлли. Гавот (скрипка и фортепиано);
Джон (1680-1740). Соната для скрипки с фортепиано.
Сведения о посещаемости вечеров инструментальной музыки в г. Бузулуке.
На первых шести вечерах сведения приблизительные, а на остальных более точные (по билетам). Совершенно точных сведений не удалось получить, так как бесплатные посетители на первых вечерах не поддавались учёту. Бесплатных посетителей было на втором-восьмом вечерах от четверти до трети общего количества, а на последних вечерах почти наполовину. Преобладающее количество посетителей – учащиеся, учащие, служащие и врачи.
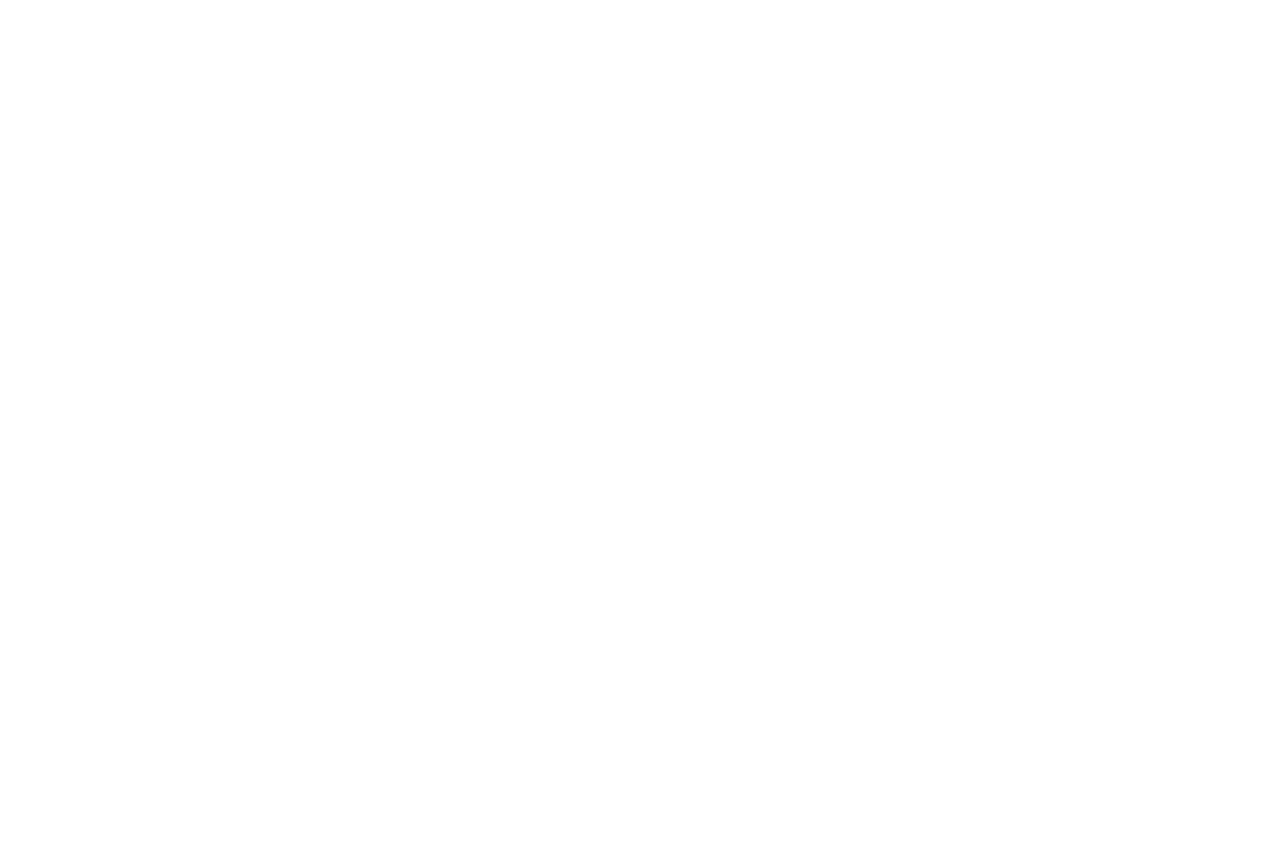
Сотрудники Бузулукского уездного отдела народного образования, середина 1920-х годов.
Сидит второй слева заведующий отделом Николай Иванович Задульский.
Фото из фондов Бузулукского краеведческого музея
Сидит второй слева заведующий отделом Николай Иванович Задульский.
Фото из фондов Бузулукского краеведческого музея
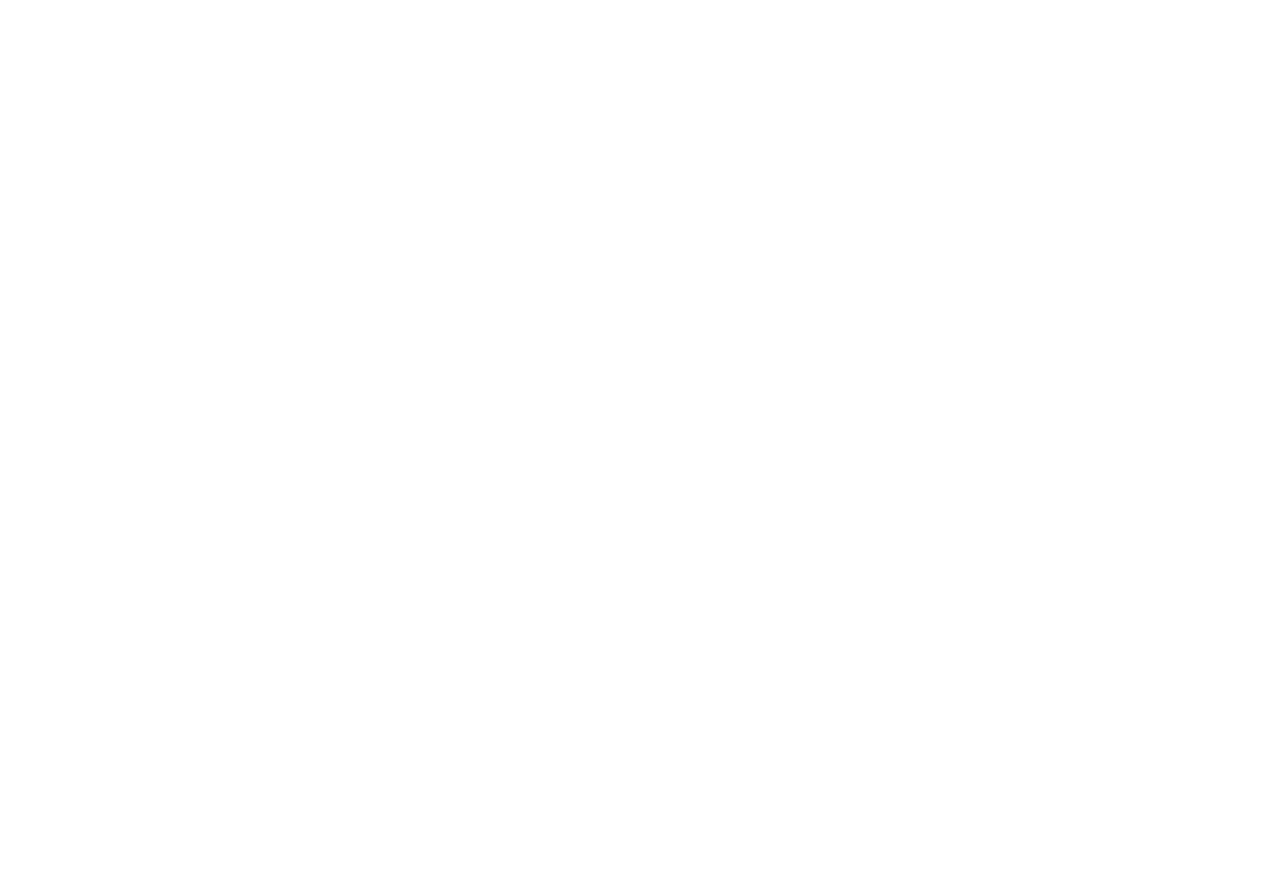
Коллектив Бузулукского педагогического техникума, 1923 год. Стоит третий справа А.Г. Ситников.
Фото из фондов Бузулукского краеведческого музея.
Фото из фондов Бузулукского краеведческого музея.
ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ