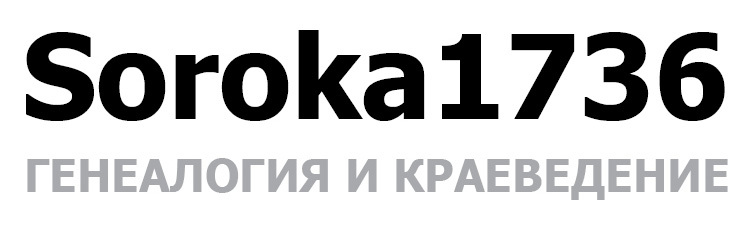Галина Адельсон-Вельская
апрель 2025 года
Скульптор Исидор Фрих-Хар
Жизнь замечательных людей
в Самаре
в Самаре
Член РКСМ. Ношу брюки галифе.
Пробор всегда аккуратно расчесан.
Через день на углу чищу ботинки.
Обедаю один раз в два или три дня.
Завтраков и ужинов не признаю
принципиально.
Артём Весёлый
Пробор всегда аккуратно расчесан.
Через день на углу чищу ботинки.
Обедаю один раз в два или три дня.
Завтраков и ужинов не признаю
принципиально.
Артём Весёлый
Фотография была необычной. Человек с пронзительным взглядом обнимал скульптурную голову крестьянина. Я перевернула фото и увидела надпись на обороте – «На память сестры Еве от Исидора…(неразборчиво) IX/19.. Самара».
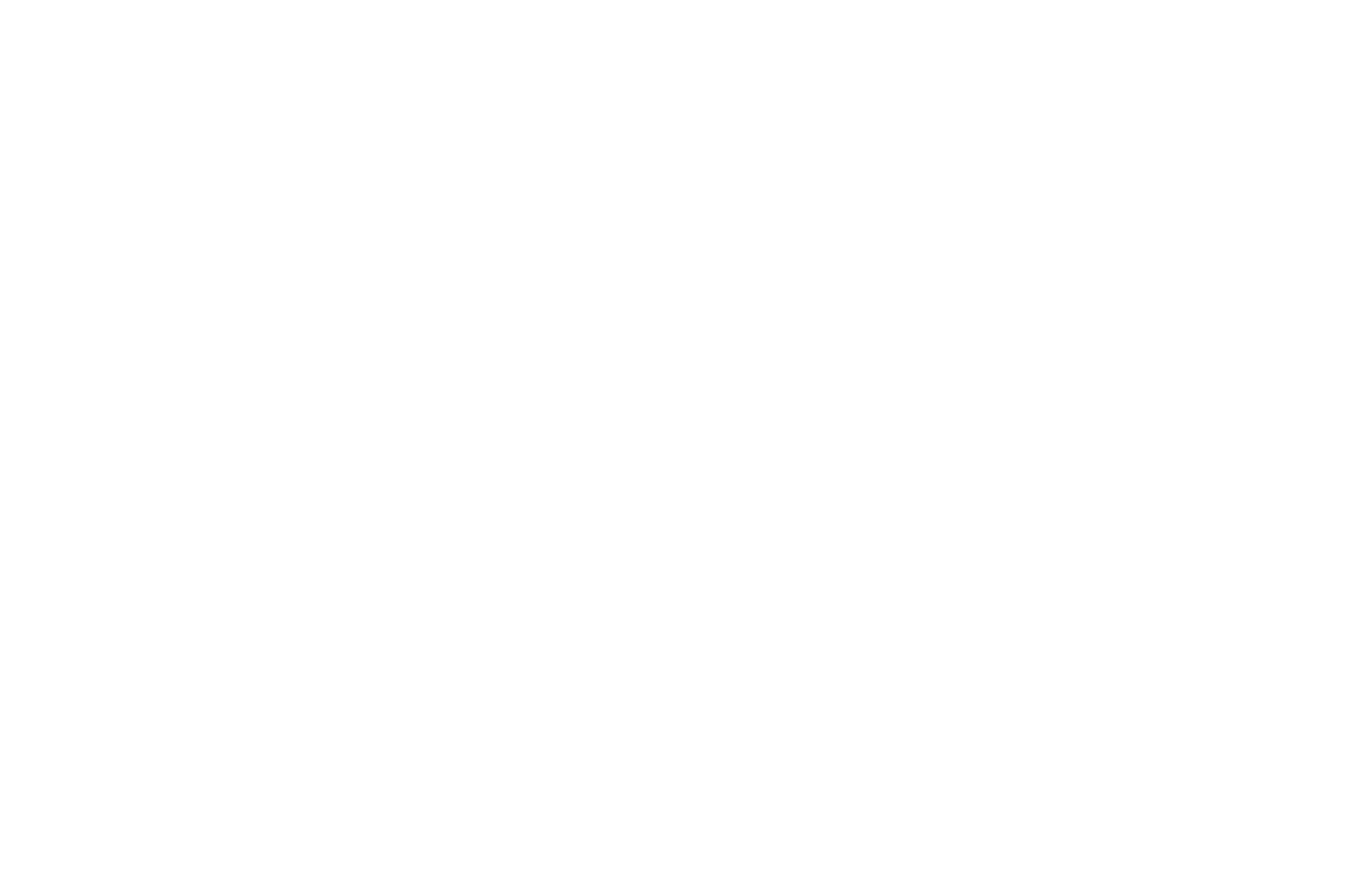
То есть? Еще один брат дедушки? Никогда в нашей семье не упоминалось имя «Исидор»! Я отложила фотографию в сторону и снова занялась поисками информации о дедушкиной сестре Лизе. Но этот человек с горящими глазами тревожил мое воображение, заставлял снова и снова всматриваться в его лицо. Казалось, что он хочет мне сказать что-то важное.
Мои сестры, и родная, и двоюродные тоже ничего не слышали об Исидоре, а Аня на мое предложение вместе поискать, засмеялась: «Ну как его найти? Мы же, кроме имени, ничего не знаем!» и я вернулась к поискам Лизы, тем более что к тому времени уже знала о написанном ею очерке «От Самары до Владивостока», вошедшем в книгу «Поезд смерти». В конце концов мне улыбнулась удача, я нашла в интернете ее портрет, и даже узнала, что на самом деле ее звали Лея, что она была главным врачом медицинского эшелона на Оренбургском фронте, тоже жила в Самаре и входила в этот круг «Куйбышев-Рабинович-Адельсон». Но дальше снова были сплошные тупики.
Я опять взглянула в глаза Исидора. Он обнимал голову крестьянина так, как будто сам ее вылепил. А что? Может быть так и есть? Я набрала в поиске «Исидор – скульптор» и «ларчик» открылся. На меня смотрели те же глаза, только на сильно постаревшем лице. «Исидор Фрих-Хар – крупный мастер декоративно-прикладного искусства, основатель художественной лаборатории фаянсового завода в Конаково – родился 17 апреля 1893 года и до 15 лет жил в Кутаиси. С 16 лет, по настоянию отца, работал в кожевенной мастерской. Все свободное время рисовал или лепил из глины. Несколько уроков мастерства преподал мальчику заезжий скульптор. В 1914 году Исидора призвали в армию. Он был ранен в одной из первых же атак. В медицинском эшелоне Фрих-Хар попал в Самару, где познакомился с Бурлюком, впервые принял участие в художественной выставке, а потом еще и участвовал в боях за освобождение города от чехов. Воюя с белочехами, он попал в плен, бежал из «поезда смерти» и вновь вернулся в строй».
Цепь сомкнулась!
Больше всего меня поразило упоминание о Давиде Бурлюке. Неужели он тоже имел отношение к Самаре? Интернет подтверждает: «В марте 1917 года в Самаре открылась первая персональная выставка картин Бурлюка. Был выпущен каталог с авторским предисловием, в котором он изложил собственную художественную концепцию».
Ну и Самара! Просто центр мира! Интересно кто еще там отметился? «В 1881 году Лев Толстой в очередной раз приезжал в своё самарское имение». Ну это задолго до наших героев. «Максим Горький говорит, что телом он родился в Нижнем Новгороде, духовно в Казани, а как писатель в Самаре». Интересно. Когда он там был? 1895 уже ближе.
Известно, что Самару он при этом не любил и писал о ней очень зло. Смотрим, кто еще…
О! Борис Пастернак! 1 июля 1916 года из Самары Борис Леонидович отправляет письмо Збарским, у которых жил в то время, работая помощником управляющего химических заводов во Всеволодо-Вильве (Северный Урал), и в нем он пишет: «Самара – лучший, греховнейший, элегантнейший и благоустроеннейший кусок Москвы, выхваченный и пересаженный на берега Волги. Прямые асфальтированные бесконечные улицы, электричество, трамвай, Шанксовско-Бишковские витрины, кафе, лифты, отели на трех союзных языках с английской облицовкой, пятиэтажные дома, книжные магазины и т.д. Дороговизна ужасающая. Пароходы переполнены, и я, наверное, сокращу водный свой путь до Сызрани».
1916, это год, с которого начинаются коллективные фотографии нашей самарской компании… И в этот город ссылали революционеров! Вот это неожиданность!
Я вернулась к Исидору. Все публикации о нем повторяли одно и то же, в основном, описывая его творческие достижения – руководство художественной лабораторией Конаковского фаянсового завода, золотую медаль за скульптуру «Пушкин на диване» Всемирной Парижской выставки «Искусство и техника в современной жизни» в 1937 году, наличие его работ в Третьяковской галерее. Меня же интересовала его ранняя биография, жизнь в Самаре, и как он познакомился с Евой Адельсон.
Я решила разыскать потомков Фрих-Хара, и это оказалось очень легко. Буквально через два клика интернет вывел меня на страницу его внука – Петра Маслова, с которым у меня оказалось много общих друзей. Я написала ему о том, что у меня есть фотография его деда, и через короткое время мы уже говорили по телефону с мамой Петра – дочерью Исидора – Ганной Фрих-Хар. Привожу ее рассказ об Исидоре, времен службы в царской армии:
«Исидор Григорьевич Фрих-Хар был призван на военную службу ещё до Первой Мировой войны (похоже, что прибавил себе возраст, чтобы покинуть кожевенную мастерскую). По словам отца, он начал службу в Кременчуге, в 35-ой армии Горчакова. Из его армейской жизни до войны мне известно только об одном случае. Фельдфебель заставлял его ходить в казарме на коленях, а Исидор не выдержал, выхватил штык-нож и бросился на обидчика. Товарищи, стоявшие рядом, успели схватить Исидора и оттащить от оторопевшего фельдфебеля…
За данную провинность он был арестован и посажен в земляную яму до вынесения приговора военным трибуналом. По счастью, стены этой ямы были из глинистой породы, поэтому у Исидора появилась возможность снова лепить. Не знаю по какой причине, но им была вылеплена голова того самого фельдфебеля, на которого он набросился со штык-ножом. По истечении месяца арестованного Фрих-Хара вызвали на военный суд. За это время обе ноги у него оттекли (вероятно, диаметр ямы был небольшой). Из ямы по лестнице подымался наверх кое-как, уронил голову фельдфебеля, которую взял с собой. Когда оказался наверху, самостоятельно уже не мог передвигаться. Двое солдат взяли его под руки и понесли… и голову тоже прихватили. Голова потерпевшего выглядела настолько реалистично, что на всех произвела большое впечатление! Сам Исидор считал, что именно она сыграла главную роль в том, что он был оставлен служить без дополнительных наказаний».
Вскоре полк был отправлен в действующую армию, и одно из его воинских подразделений вступило в тяжелый бой с германцами под Брест-Литовском. В этом бою Фрих-Хар получил тяжелое штыковое ранение в плечо. К счастью, его нашли санитары и отправили в тыл. Сначала в Киев, а оттуда в Самару. Мне довольно долго не удавалось найти связь между Исидором и Евой. Где они познакомились? Почему сестра? Подсказка была получена от его внука: «А может быть сестра – это «сестра милосердия»? И действительно! В Государственном историческом музее (Москва) хранится фотоальбом «Самарский губернский комитет Всероссийского земского союза и его учреждения». На фото «Медицинский и административный персонал лазарета «11» я узнала не только обеих сестер Адельсон – и Лею, и Еву, но и своего деда – Максима Григорьевича Адельсон-Вельского. Он – крайний справа во втором ряду. Лея стоит пятая слева, в третьем ряду, а Ева, та самая, которой Исидор оставил фото на память, в том же ряду последняя, за спиной своего брата.
Мои сестры, и родная, и двоюродные тоже ничего не слышали об Исидоре, а Аня на мое предложение вместе поискать, засмеялась: «Ну как его найти? Мы же, кроме имени, ничего не знаем!» и я вернулась к поискам Лизы, тем более что к тому времени уже знала о написанном ею очерке «От Самары до Владивостока», вошедшем в книгу «Поезд смерти». В конце концов мне улыбнулась удача, я нашла в интернете ее портрет, и даже узнала, что на самом деле ее звали Лея, что она была главным врачом медицинского эшелона на Оренбургском фронте, тоже жила в Самаре и входила в этот круг «Куйбышев-Рабинович-Адельсон». Но дальше снова были сплошные тупики.
Я опять взглянула в глаза Исидора. Он обнимал голову крестьянина так, как будто сам ее вылепил. А что? Может быть так и есть? Я набрала в поиске «Исидор – скульптор» и «ларчик» открылся. На меня смотрели те же глаза, только на сильно постаревшем лице. «Исидор Фрих-Хар – крупный мастер декоративно-прикладного искусства, основатель художественной лаборатории фаянсового завода в Конаково – родился 17 апреля 1893 года и до 15 лет жил в Кутаиси. С 16 лет, по настоянию отца, работал в кожевенной мастерской. Все свободное время рисовал или лепил из глины. Несколько уроков мастерства преподал мальчику заезжий скульптор. В 1914 году Исидора призвали в армию. Он был ранен в одной из первых же атак. В медицинском эшелоне Фрих-Хар попал в Самару, где познакомился с Бурлюком, впервые принял участие в художественной выставке, а потом еще и участвовал в боях за освобождение города от чехов. Воюя с белочехами, он попал в плен, бежал из «поезда смерти» и вновь вернулся в строй».
Цепь сомкнулась!
Больше всего меня поразило упоминание о Давиде Бурлюке. Неужели он тоже имел отношение к Самаре? Интернет подтверждает: «В марте 1917 года в Самаре открылась первая персональная выставка картин Бурлюка. Был выпущен каталог с авторским предисловием, в котором он изложил собственную художественную концепцию».
Ну и Самара! Просто центр мира! Интересно кто еще там отметился? «В 1881 году Лев Толстой в очередной раз приезжал в своё самарское имение». Ну это задолго до наших героев. «Максим Горький говорит, что телом он родился в Нижнем Новгороде, духовно в Казани, а как писатель в Самаре». Интересно. Когда он там был? 1895 уже ближе.
Известно, что Самару он при этом не любил и писал о ней очень зло. Смотрим, кто еще…
О! Борис Пастернак! 1 июля 1916 года из Самары Борис Леонидович отправляет письмо Збарским, у которых жил в то время, работая помощником управляющего химических заводов во Всеволодо-Вильве (Северный Урал), и в нем он пишет: «Самара – лучший, греховнейший, элегантнейший и благоустроеннейший кусок Москвы, выхваченный и пересаженный на берега Волги. Прямые асфальтированные бесконечные улицы, электричество, трамвай, Шанксовско-Бишковские витрины, кафе, лифты, отели на трех союзных языках с английской облицовкой, пятиэтажные дома, книжные магазины и т.д. Дороговизна ужасающая. Пароходы переполнены, и я, наверное, сокращу водный свой путь до Сызрани».
1916, это год, с которого начинаются коллективные фотографии нашей самарской компании… И в этот город ссылали революционеров! Вот это неожиданность!
Я вернулась к Исидору. Все публикации о нем повторяли одно и то же, в основном, описывая его творческие достижения – руководство художественной лабораторией Конаковского фаянсового завода, золотую медаль за скульптуру «Пушкин на диване» Всемирной Парижской выставки «Искусство и техника в современной жизни» в 1937 году, наличие его работ в Третьяковской галерее. Меня же интересовала его ранняя биография, жизнь в Самаре, и как он познакомился с Евой Адельсон.
Я решила разыскать потомков Фрих-Хара, и это оказалось очень легко. Буквально через два клика интернет вывел меня на страницу его внука – Петра Маслова, с которым у меня оказалось много общих друзей. Я написала ему о том, что у меня есть фотография его деда, и через короткое время мы уже говорили по телефону с мамой Петра – дочерью Исидора – Ганной Фрих-Хар. Привожу ее рассказ об Исидоре, времен службы в царской армии:
«Исидор Григорьевич Фрих-Хар был призван на военную службу ещё до Первой Мировой войны (похоже, что прибавил себе возраст, чтобы покинуть кожевенную мастерскую). По словам отца, он начал службу в Кременчуге, в 35-ой армии Горчакова. Из его армейской жизни до войны мне известно только об одном случае. Фельдфебель заставлял его ходить в казарме на коленях, а Исидор не выдержал, выхватил штык-нож и бросился на обидчика. Товарищи, стоявшие рядом, успели схватить Исидора и оттащить от оторопевшего фельдфебеля…
За данную провинность он был арестован и посажен в земляную яму до вынесения приговора военным трибуналом. По счастью, стены этой ямы были из глинистой породы, поэтому у Исидора появилась возможность снова лепить. Не знаю по какой причине, но им была вылеплена голова того самого фельдфебеля, на которого он набросился со штык-ножом. По истечении месяца арестованного Фрих-Хара вызвали на военный суд. За это время обе ноги у него оттекли (вероятно, диаметр ямы был небольшой). Из ямы по лестнице подымался наверх кое-как, уронил голову фельдфебеля, которую взял с собой. Когда оказался наверху, самостоятельно уже не мог передвигаться. Двое солдат взяли его под руки и понесли… и голову тоже прихватили. Голова потерпевшего выглядела настолько реалистично, что на всех произвела большое впечатление! Сам Исидор считал, что именно она сыграла главную роль в том, что он был оставлен служить без дополнительных наказаний».
Вскоре полк был отправлен в действующую армию, и одно из его воинских подразделений вступило в тяжелый бой с германцами под Брест-Литовском. В этом бою Фрих-Хар получил тяжелое штыковое ранение в плечо. К счастью, его нашли санитары и отправили в тыл. Сначала в Киев, а оттуда в Самару. Мне довольно долго не удавалось найти связь между Исидором и Евой. Где они познакомились? Почему сестра? Подсказка была получена от его внука: «А может быть сестра – это «сестра милосердия»? И действительно! В Государственном историческом музее (Москва) хранится фотоальбом «Самарский губернский комитет Всероссийского земского союза и его учреждения». На фото «Медицинский и административный персонал лазарета «11» я узнала не только обеих сестер Адельсон – и Лею, и Еву, но и своего деда – Максима Григорьевича Адельсон-Вельского. Он – крайний справа во втором ряду. Лея стоит пятая слева, в третьем ряду, а Ева, та самая, которой Исидор оставил фото на память, в том же ряду последняя, за спиной своего брата.
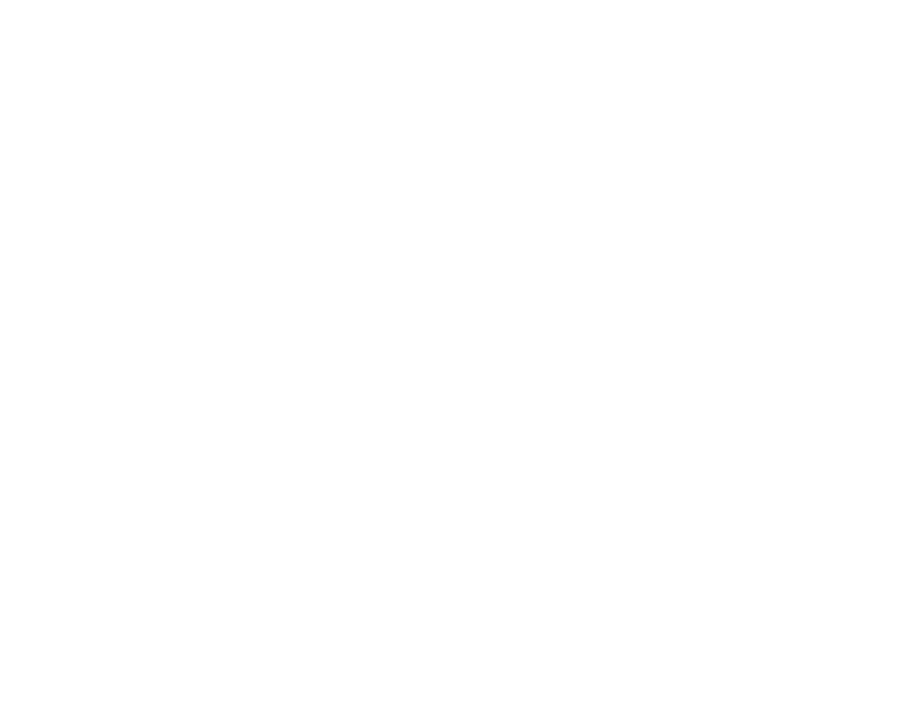
Фото из фондов Государственного исторического музея (Москва)
Мне удалось выяснить, что лазарет № 11 Всероссийского Земского Союза помещался возле воинской платформы и был сортировочно-пропускным пунктом, куда везли всех раненых со станции. Значит и наш герой не мог миновать его. Неизвестно, конечно, когда именно И. Фрихар (а тогда его фамилия писалась именно так) поступил в лазарет, сколько времени лечился от ранения, но 15 марта 1916 года в одной из самарских газет появилось такое объявление: «В городе Самаре скульптором Краковской академии Фрихаром открыты курсы лепки. Курсы платные: 5-10 рублей с ученика. Для бедных бесплатно». Объясняется это тем, что Исидора пригласили вести курсы лепки при Самарском обществе народных университетов. Чтобы набрать желающих были опубликованы и расклеены объявления, на которые откликнулось немало желающих.
И, конечно, не обошлось без курьеза, о котором пишут во многих публикациях: «Фрих-Хар с энтузиазмом приступил к работе. Спустя некоторое время руководство общества объявило Исидору Григорьевичу, что оно передумало: нет денег. Когда же он явился в общество, чтобы забрать изготовленные им барельефы, то услышал начальственный бас швейцара: «А вас сюда пущать не велено!». Думаю, что работы он свои вызволил. Есть упоминание о том, что «к моменту открытия художественной выставки, которая, вероятно, проходила в Зале императора Александра II при Александровской публичной библиотеке города Самары в 1916 году, у Исидора были готовы 10 работ композиционного плана («Мальчики», «Плач» и др.) и несколько скульптурных портретов. Именно их он и выставил…»
В газете «Волжский день» от 6 и 13 апреля 1917 года мы читаем: «Выставка картин и скульптуры с участием скульптора Исидора Фрихар открыта от 10 до 6 часов вечера. Объяснения дает художник, Дворянская, 100.»
И, конечно, не обошлось без курьеза, о котором пишут во многих публикациях: «Фрих-Хар с энтузиазмом приступил к работе. Спустя некоторое время руководство общества объявило Исидору Григорьевичу, что оно передумало: нет денег. Когда же он явился в общество, чтобы забрать изготовленные им барельефы, то услышал начальственный бас швейцара: «А вас сюда пущать не велено!». Думаю, что работы он свои вызволил. Есть упоминание о том, что «к моменту открытия художественной выставки, которая, вероятно, проходила в Зале императора Александра II при Александровской публичной библиотеке города Самары в 1916 году, у Исидора были готовы 10 работ композиционного плана («Мальчики», «Плач» и др.) и несколько скульптурных портретов. Именно их он и выставил…»
В газете «Волжский день» от 6 и 13 апреля 1917 года мы читаем: «Выставка картин и скульптуры с участием скульптора Исидора Фрихар открыта от 10 до 6 часов вечера. Объяснения дает художник, Дворянская, 100.»
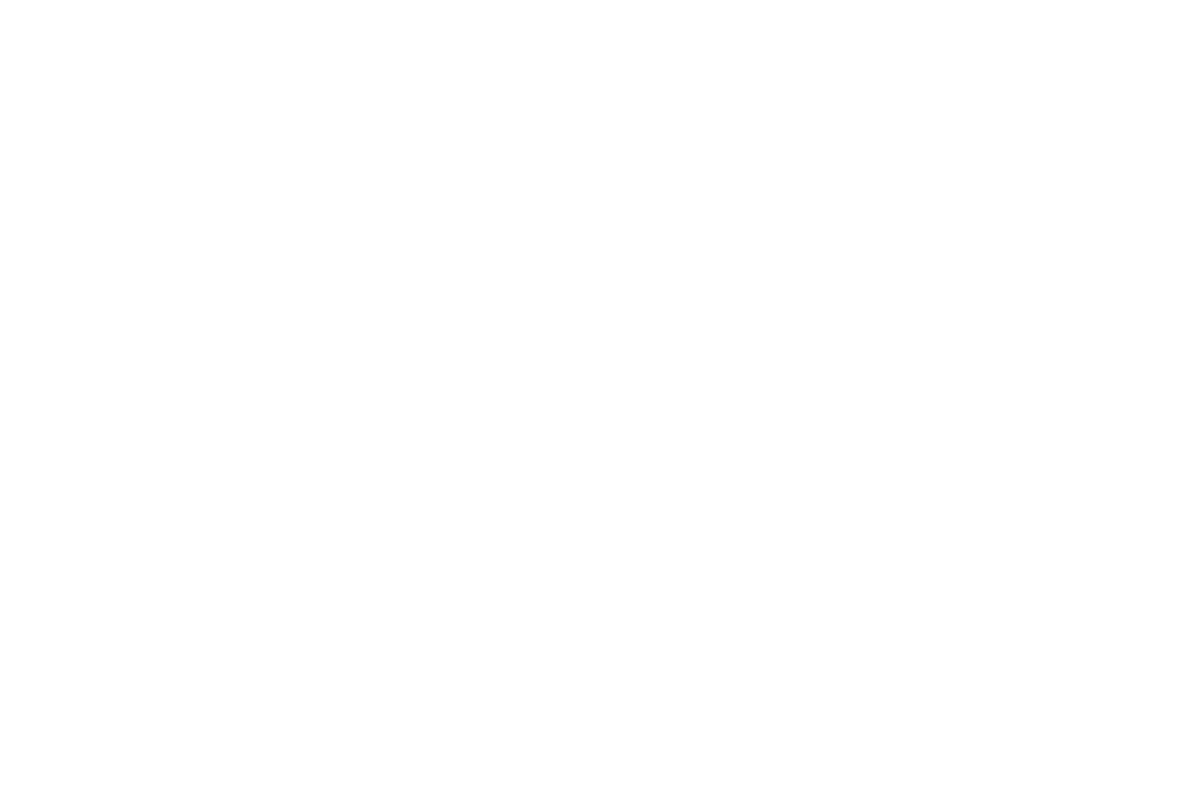
В Самаре в здании на Дворянской, 100 располагался синематограф «Триумф»
Между тем выставка продолжалась, и 23 апреля 1917 года в газете «Волжский день» появилось новое объявление:
«Сегодня, 23 апреля, последний день выставки картин и скульптуры. Будут демонстрироваться в 12 часов скульптором Фрихаром уроки лепки. С 4 часов митинг с участием художников В.В. Гундобина, Г.П. Подбельского, а также будут участвовать литераторы и друг. Дворянская №100».
Фамилии других участников выставки дают ответ на еще одну загадку этой истории – это члены кружка самарских художников, известные своей дружбой с молодыми журналистами (вот и литераторы прояснились) Степаном Петровым, принявшим впоследствии псевдоним Скиталец (он в это время отбывал ссылку в Самарской губернии, Евсеем Улановым, писавшим в Самарской газете под псевдонимом Евстигней Бездомный, а также Иваном Антоновым-Изгнанником. Об их политических пристрастиях мы можем судить по псевдонимам.
На конференции большевиков, которая прошла 9 апреля, было принято решение о создании дружин вооруженных рабочих (Красной гвардии), а 16 октября 1917 года в газете «Приволжская правда» появилось сообщение о том, организация самарской Красной гвардии окончательно оформилась. И, как становится понятно из дальнейших событий, наш герой записался добровольцем в Красную гвардию.
Поначалу он продолжал заниматься преподаванием, только на этот раз, его учениками были красноармейцы. Не хватало красок и других материалов. Но бурная революционная жизнь Самары не останавливалась. Летом 1918 года произошло восстание чехословацкого корпуса. В составе отряда ЧОН Фрих-Хар участвовал в сражении под Липягами. А дальше интернет-источники начинают путаться в показаниях. Информация сходится только в том, что попал в плен и бежал. Одни пишут, что бежал из тюрьмы, другие, что из «Эшелона смерти». В качестве места побега фигурируют Омск и Уфа. Никаких конкретных фактов не приводится.
Зато в семье сохранилась фотография, которую дочь комментирует так: «Исидор был в тюрьме и оттуда бежал. Помню, что человек, стоящий рядом с ним – поэт, и они оба бежали от белочехов! В книге все подробно описано».
Название «Липяги» вызывает у меня священный ужас. Когда в поисках Леи Зальцман-Адельсон я прочесывала интернет, то наткнулась на публикацию из газеты «Волжское слово» от 16 июня 1918 года: «Около станции Липяги приступлено к похоронам убитых в бою под Липягами красноармейцев. Всего по 14 июня схоронено 1300 человек. Похороны продолжаются. Предстоит еще убрать трупы с берега реки Свинухи и в воде разлива реки Самарки». В том числе легионерами там был расстрелян и санитарный поезд [которым руководила Лея Зальцман. – Прим. ред.] Потери белочехов под Липягами были незначительные».
Я стала выяснять у дочери и внука Исидора что еще он им рассказывал о своей жизни этих времен, и Пётр прислал мне фрагменты из книги, изданной как каталог проходившей в 1994 году выставке, посвящённой столетию Фрих-Хара и 90-летию его жены, тоже известного художника, Марии Холодной. История невероятных приключений скульптора в плену была записана со слов Исидора его зятем, мужем дочери Ганны и больше всего напоминала фильм «Неуловимые мстители». Судите сами: плен, два побега: один раз – от белых к красным, а второй раз – от красных к красным. В первый раз помогло умение рисовать, и банальная взятка, а во второй раз спасла его замечательная женщина Зоя Васильевна Славянова.
Я обрадовалась. Наконец что-то конкретное. По словам Исидора, эта женщина была очень образованной, до революции дружила с Максимом Горьким, вела культурную работу среди заключенных, помогла ему перебраться из самарской тюрьмы в уфимскую, а когда он вернулся в Самару и попал на этот раз уже в плен к красным и бежал, помогла восстановить его честное имя. Однако в каталоге выставки было сказано: «Личность З. В. Славяновой не установлена». Вот ведь незадача! Придется искать поэта!
Поэтов в то время было предостаточно. Например, Михаил Герасимов, чья книжка хранится у дочери нашего героя. Есть и другие свидетельства об их дружбе с Исидором. Правда, ни в одной статье о Герасимове нет и намека на его участие в сражении, побег из плена и т.д. Ганна Фрих-Хар называла имя Кирилл, но ни одного подходящего Кирилла найти мне не удалось. Когда же я меняла условия поиска, писала про Липяги, про побег, про Самару, то сразу появлялся Николай Кочкуров со множеством псевдонимов, среди которых не было Кирилла. И все же он был очень похож на юношу в темной косоворотке, стоящего рядом с Исидором. Когда же мне попался его автобиографический рассказ, где главного героя зовут «Кирилка», я окончательно уверилась, что именно он, Николай, прославившийся под псевдонимом Артём Весёлый – тот самый поэт, бежавший от белочехов, как и Фрих-Хар.
«Сегодня, 23 апреля, последний день выставки картин и скульптуры. Будут демонстрироваться в 12 часов скульптором Фрихаром уроки лепки. С 4 часов митинг с участием художников В.В. Гундобина, Г.П. Подбельского, а также будут участвовать литераторы и друг. Дворянская №100».
Фамилии других участников выставки дают ответ на еще одну загадку этой истории – это члены кружка самарских художников, известные своей дружбой с молодыми журналистами (вот и литераторы прояснились) Степаном Петровым, принявшим впоследствии псевдоним Скиталец (он в это время отбывал ссылку в Самарской губернии, Евсеем Улановым, писавшим в Самарской газете под псевдонимом Евстигней Бездомный, а также Иваном Антоновым-Изгнанником. Об их политических пристрастиях мы можем судить по псевдонимам.
На конференции большевиков, которая прошла 9 апреля, было принято решение о создании дружин вооруженных рабочих (Красной гвардии), а 16 октября 1917 года в газете «Приволжская правда» появилось сообщение о том, организация самарской Красной гвардии окончательно оформилась. И, как становится понятно из дальнейших событий, наш герой записался добровольцем в Красную гвардию.
Поначалу он продолжал заниматься преподаванием, только на этот раз, его учениками были красноармейцы. Не хватало красок и других материалов. Но бурная революционная жизнь Самары не останавливалась. Летом 1918 года произошло восстание чехословацкого корпуса. В составе отряда ЧОН Фрих-Хар участвовал в сражении под Липягами. А дальше интернет-источники начинают путаться в показаниях. Информация сходится только в том, что попал в плен и бежал. Одни пишут, что бежал из тюрьмы, другие, что из «Эшелона смерти». В качестве места побега фигурируют Омск и Уфа. Никаких конкретных фактов не приводится.
Зато в семье сохранилась фотография, которую дочь комментирует так: «Исидор был в тюрьме и оттуда бежал. Помню, что человек, стоящий рядом с ним – поэт, и они оба бежали от белочехов! В книге все подробно описано».
Название «Липяги» вызывает у меня священный ужас. Когда в поисках Леи Зальцман-Адельсон я прочесывала интернет, то наткнулась на публикацию из газеты «Волжское слово» от 16 июня 1918 года: «Около станции Липяги приступлено к похоронам убитых в бою под Липягами красноармейцев. Всего по 14 июня схоронено 1300 человек. Похороны продолжаются. Предстоит еще убрать трупы с берега реки Свинухи и в воде разлива реки Самарки». В том числе легионерами там был расстрелян и санитарный поезд [которым руководила Лея Зальцман. – Прим. ред.] Потери белочехов под Липягами были незначительные».
Я стала выяснять у дочери и внука Исидора что еще он им рассказывал о своей жизни этих времен, и Пётр прислал мне фрагменты из книги, изданной как каталог проходившей в 1994 году выставке, посвящённой столетию Фрих-Хара и 90-летию его жены, тоже известного художника, Марии Холодной. История невероятных приключений скульптора в плену была записана со слов Исидора его зятем, мужем дочери Ганны и больше всего напоминала фильм «Неуловимые мстители». Судите сами: плен, два побега: один раз – от белых к красным, а второй раз – от красных к красным. В первый раз помогло умение рисовать, и банальная взятка, а во второй раз спасла его замечательная женщина Зоя Васильевна Славянова.
Я обрадовалась. Наконец что-то конкретное. По словам Исидора, эта женщина была очень образованной, до революции дружила с Максимом Горьким, вела культурную работу среди заключенных, помогла ему перебраться из самарской тюрьмы в уфимскую, а когда он вернулся в Самару и попал на этот раз уже в плен к красным и бежал, помогла восстановить его честное имя. Однако в каталоге выставки было сказано: «Личность З. В. Славяновой не установлена». Вот ведь незадача! Придется искать поэта!
Поэтов в то время было предостаточно. Например, Михаил Герасимов, чья книжка хранится у дочери нашего героя. Есть и другие свидетельства об их дружбе с Исидором. Правда, ни в одной статье о Герасимове нет и намека на его участие в сражении, побег из плена и т.д. Ганна Фрих-Хар называла имя Кирилл, но ни одного подходящего Кирилла найти мне не удалось. Когда же я меняла условия поиска, писала про Липяги, про побег, про Самару, то сразу появлялся Николай Кочкуров со множеством псевдонимов, среди которых не было Кирилла. И все же он был очень похож на юношу в темной косоворотке, стоящего рядом с Исидором. Когда же мне попался его автобиографический рассказ, где главного героя зовут «Кирилка», я окончательно уверилась, что именно он, Николай, прославившийся под псевдонимом Артём Весёлый – тот самый поэт, бежавший от белочехов, как и Фрих-Хар.
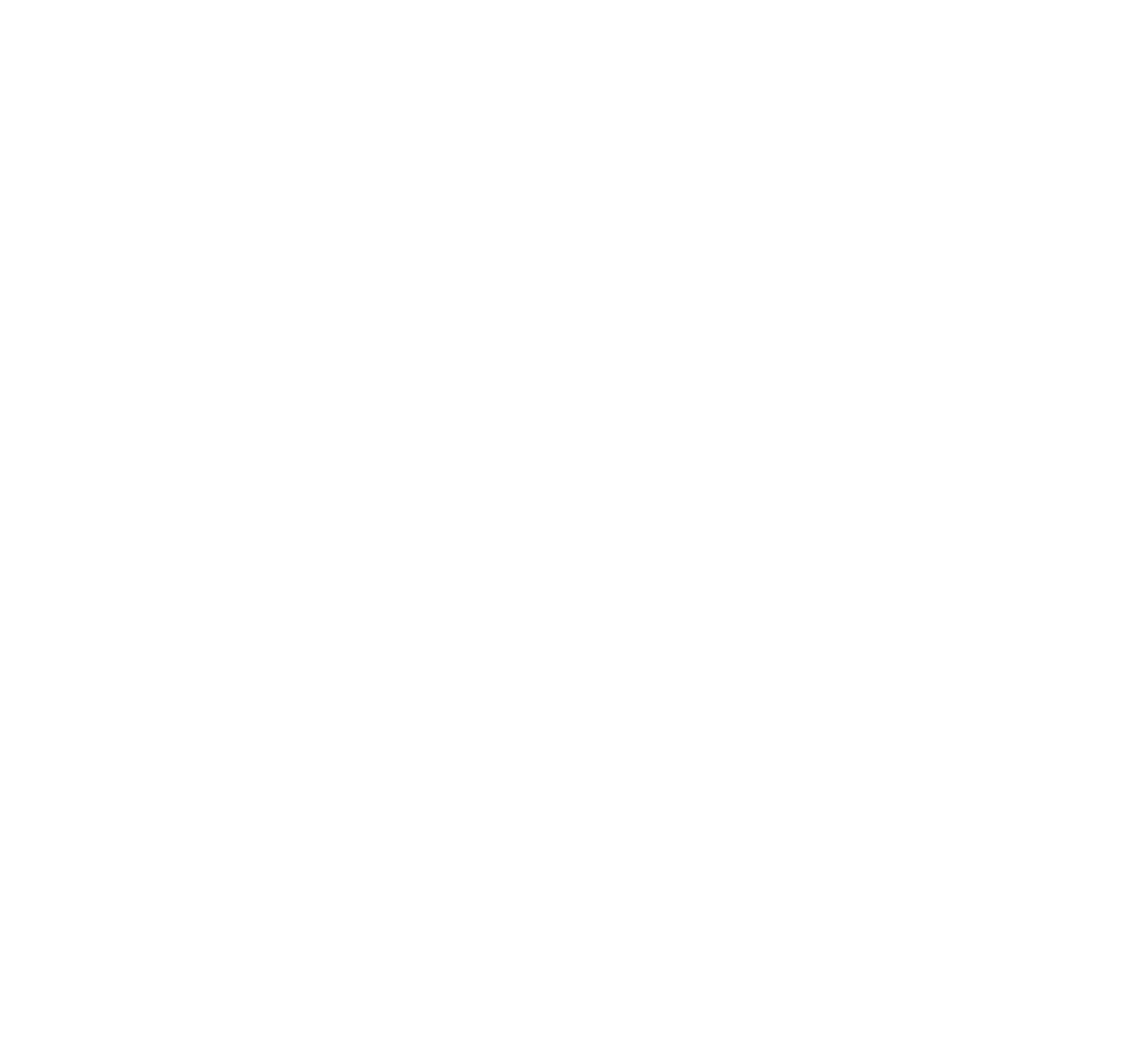
Артём Весёлый и Исидор Фрих-Хар
Об этом незаурядном человеке написано много статей и воспоминаний, а его роман «Россия, кровью умытая», где правдиво описаны события того времени и судьбы участников этих событий, был запрещен в 30-е годы. Сам автор, его жена и дочери были репрессированы. После реабилитации Артёма Весёлого книга вышла снова, и сегодня получает множество хвалебных отзывов. Приведу один, который объединяет все остальные высказывания: «Правдивая книга, великолепный язык автора, немного необычный, но всё здорово. Прочитав её, понимаешь, что такое Гражданская война, где нет правых и неправых. Сильная вещь. Рекомендую всем любителям истории».
Я же предлагаю прочесть его описание боя за Самару у села Липяги 4 июня 1918 года:
«Наша боевая дружина коммунистов из Самары была выслана на фронт под село Липяги, в 12 верстах от города.
Прибыв к месту назначения, мы на окраине села вырыли две линии окопов и стали ждать наступающих с Волги чехов. На другой день к нам на подмогу прямо с Оренбургского фронта прибыл Северный летучий отряд моряков-балтийцев […]
Чехи подтянулись и ударили в штыки. Наши части, лишенные общего руководства, штыкового удара не приняли и обратились в паническое бегство. И только отряд моряков не побежал. К нему присоединилась маленькая группа из нашей дружины. Залегли у железнодорожной насыпи и больше часа вели бой с численно превосходившим нас противником.
Моряки дрались, как львы, и ни один из них не вышел живым из этого боя. По широкой степи раскиданы их косточки.
Какова же судьба бросившихся в бегство? Позади второй лини окопов протекала речка Татьянка. Больше тысячи человек чехи здесь захватили в плен. Товарищи, не захотевшие сдаться, бросились вплавь. На воде чехи подстреливали их и множество потопили.
Потом пришлось бежать по раскисшим от половодья лугам и, кроме Татьянки, переплывать Дубовый ерик, Орлово озеро, Говнюшку, Сухую Самарку и только в количестве тридцати человек к вечеру этого дня мы добрались до Самары».
Солдаты гарнизона, остатки разбитых отрядов и члены боевой дружины коммунистов пытались защищать Самару. Во время артобстрела Николай Кочкуров был ранен осколком шрапнели. А утром 8 июня город был сдан.
Многих пленных красноармейцев и коммунистов белочехи расстреливали без суда. Николай попал в больницу, и, с помощью отца, который подогнал туда свою пролетку, бежал. Фрих-Хар был захвачен в плен и посажен в самарскую тюрьму.
23 июня в газете «Волжский день» появилась заметка:
«Скульптор в тюрьме
Небезызвестный Самаре скульптор Фрихар, поступивший в свое время в Красную армию, был взят под Липягами в плен и находится сейчас в тюрьме. Лица, близко знающие Фрихара, рассказывают «трагическую» историю его поступления в красноармейцы. Фрихар, возвратясь откуда-то, сильно промочил брюки, почему и положил их для просушки в печь. Утром оказалось, что брюки сгорели, и Фрихар оказался в затруднительном положении: ему не в чем было выйти на улицу и не на что было купить новые брюки. По зрелом обсуждении создавшегося положения Фрихар решил поступить в Красную армию, где выдавали полное обмундирование. Поступая в армию, Фрихар, конечно, не рассчитывал, что новая служба готовит ему не только готовое обмундирование, но и «готовую квартиру».
Буквально через несколько дней в газете появилась новая заметка:
«Протест Фрихара
Скульптор Фрихар прислал в нашу редакцию письмо:
«Прошу поместить в Вашей газете следующие строки: «Оказывается, что редакция «Волжского дня» озабочена кроме спасения отечества также моими брюками, что ясно усматривается из заметки, помещенной в «Волжском дне», № 4. Весьма польщенный такой внимательностью редакции, считаю нужным внести в указанную заметку некоторые фактические поправки. Во-первых: в регулярной Красной армии я не имел чести состоять. Я находился в её рядах в качестве добровольца до мая месяца. Во-вторых, довожу до сведения достопочётной [так в оригинале] редакции, что оную службу свою я выполнял в СВОИХ собственных брюках, каковые назначенная редакцией экспертиза может лицезреть на моих ногах и в настоящее время – лишь только пусть потрудится сделать прогулку в тюрьму. И, наконец, считая, что тяжелый труд инсинуаций по адресу политических врагов требует достойного вознаграждения: торжественно обещаю, по выходе из тюрьмы, поднести эти злополучные брюки взамен лаврового венка хроникеру-борзописцу «Волжского дня». Надеюсь, что это его устроит и успокоит.
Остаюсь с почт., заключенный 4-ой камеры Фрихар».
А дальше, как мы помним, некая Славянова помогла Исидору, еще до взятия Самары Красной армией, перебраться в уфимскую тюрьму, и там ему повезло. Начальник тюрьмы заметил, что Фрих-Хар умеет рисовать, и попросил нарисовать свой портрет. После этого каждый день художника вызывали к начальству, и он по нескольку часов кого-нибудь рисовал. Это умение спасло его от попадания в эшелон с заключенными. Из четырех с половиной тысяч человек, отправленных этими эшелонами, до Владивостока добралось две тысячи. В одном из этих поездов ехала и вела дневник дедушкина сестра – Лея Зальцман (Адельсон), которая работала в 11-ом лазарете, когда раненого Фрих-Хара доставили в Самару. Ее дневник был опубликован в книге «В эшелоне смерти» и я не буду здесь его пересказывать. Достаточно одного названия.
Я же предлагаю прочесть его описание боя за Самару у села Липяги 4 июня 1918 года:
«Наша боевая дружина коммунистов из Самары была выслана на фронт под село Липяги, в 12 верстах от города.
Прибыв к месту назначения, мы на окраине села вырыли две линии окопов и стали ждать наступающих с Волги чехов. На другой день к нам на подмогу прямо с Оренбургского фронта прибыл Северный летучий отряд моряков-балтийцев […]
Чехи подтянулись и ударили в штыки. Наши части, лишенные общего руководства, штыкового удара не приняли и обратились в паническое бегство. И только отряд моряков не побежал. К нему присоединилась маленькая группа из нашей дружины. Залегли у железнодорожной насыпи и больше часа вели бой с численно превосходившим нас противником.
Моряки дрались, как львы, и ни один из них не вышел живым из этого боя. По широкой степи раскиданы их косточки.
Какова же судьба бросившихся в бегство? Позади второй лини окопов протекала речка Татьянка. Больше тысячи человек чехи здесь захватили в плен. Товарищи, не захотевшие сдаться, бросились вплавь. На воде чехи подстреливали их и множество потопили.
Потом пришлось бежать по раскисшим от половодья лугам и, кроме Татьянки, переплывать Дубовый ерик, Орлово озеро, Говнюшку, Сухую Самарку и только в количестве тридцати человек к вечеру этого дня мы добрались до Самары».
Солдаты гарнизона, остатки разбитых отрядов и члены боевой дружины коммунистов пытались защищать Самару. Во время артобстрела Николай Кочкуров был ранен осколком шрапнели. А утром 8 июня город был сдан.
Многих пленных красноармейцев и коммунистов белочехи расстреливали без суда. Николай попал в больницу, и, с помощью отца, который подогнал туда свою пролетку, бежал. Фрих-Хар был захвачен в плен и посажен в самарскую тюрьму.
23 июня в газете «Волжский день» появилась заметка:
«Скульптор в тюрьме
Небезызвестный Самаре скульптор Фрихар, поступивший в свое время в Красную армию, был взят под Липягами в плен и находится сейчас в тюрьме. Лица, близко знающие Фрихара, рассказывают «трагическую» историю его поступления в красноармейцы. Фрихар, возвратясь откуда-то, сильно промочил брюки, почему и положил их для просушки в печь. Утром оказалось, что брюки сгорели, и Фрихар оказался в затруднительном положении: ему не в чем было выйти на улицу и не на что было купить новые брюки. По зрелом обсуждении создавшегося положения Фрихар решил поступить в Красную армию, где выдавали полное обмундирование. Поступая в армию, Фрихар, конечно, не рассчитывал, что новая служба готовит ему не только готовое обмундирование, но и «готовую квартиру».
Буквально через несколько дней в газете появилась новая заметка:
«Протест Фрихара
Скульптор Фрихар прислал в нашу редакцию письмо:
«Прошу поместить в Вашей газете следующие строки: «Оказывается, что редакция «Волжского дня» озабочена кроме спасения отечества также моими брюками, что ясно усматривается из заметки, помещенной в «Волжском дне», № 4. Весьма польщенный такой внимательностью редакции, считаю нужным внести в указанную заметку некоторые фактические поправки. Во-первых: в регулярной Красной армии я не имел чести состоять. Я находился в её рядах в качестве добровольца до мая месяца. Во-вторых, довожу до сведения достопочётной [так в оригинале] редакции, что оную службу свою я выполнял в СВОИХ собственных брюках, каковые назначенная редакцией экспертиза может лицезреть на моих ногах и в настоящее время – лишь только пусть потрудится сделать прогулку в тюрьму. И, наконец, считая, что тяжелый труд инсинуаций по адресу политических врагов требует достойного вознаграждения: торжественно обещаю, по выходе из тюрьмы, поднести эти злополучные брюки взамен лаврового венка хроникеру-борзописцу «Волжского дня». Надеюсь, что это его устроит и успокоит.
Остаюсь с почт., заключенный 4-ой камеры Фрихар».
А дальше, как мы помним, некая Славянова помогла Исидору, еще до взятия Самары Красной армией, перебраться в уфимскую тюрьму, и там ему повезло. Начальник тюрьмы заметил, что Фрих-Хар умеет рисовать, и попросил нарисовать свой портрет. После этого каждый день художника вызывали к начальству, и он по нескольку часов кого-нибудь рисовал. Это умение спасло его от попадания в эшелон с заключенными. Из четырех с половиной тысяч человек, отправленных этими эшелонами, до Владивостока добралось две тысячи. В одном из этих поездов ехала и вела дневник дедушкина сестра – Лея Зальцман (Адельсон), которая работала в 11-ом лазарете, когда раненого Фрих-Хара доставили в Самару. Ее дневник был опубликован в книге «В эшелоне смерти» и я не буду здесь его пересказывать. Достаточно одного названия.
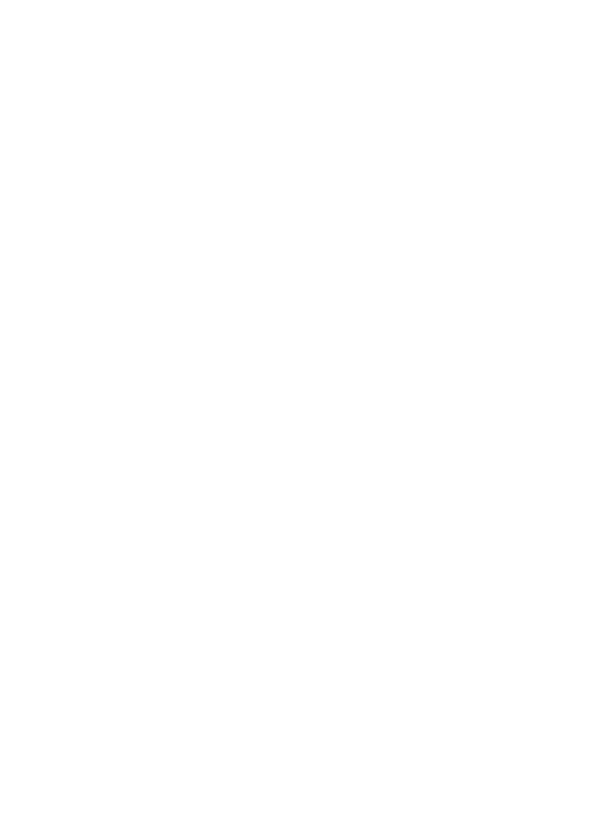
Лея Григорьевна Зальцман (Адельсон)
О своем побеге из уфимской тюрьмы сам Исидор рассказывал так: «Из Уфы меня должны были направить в пересыльный пункт. Тогда-то я и бежал. Бежал очень красиво. Охранник-татарин достал для меня татарскую шапку и какое-то тряпье. В них я добрался до железной дороги и вскочил в поезд на Самару».
Если попытаться восстановить хронологию событий, то получается, что бежал он из Уфы еще до взятия Самары Красной армией. Отсидевшись в подвале и дождавшись возвращения красных, вышел на свободу, но тут его снова арестовали. На этот раз свои, для проверки. Он снова совершил побег и при поддержке Славяновой вернулся в строй.
Мои попытки узнать что-то об этой женщине, вознаградили меня ценной информацией. Славянова в Самаре была. Только звали ее Зинаида Михайловна. Она была одной из самых заметных самарских женщин начала прошлого века: актриса, учительница, режиссер, лектор, оппозиционерка, близкая партии социалистов-революционеров. В 1917 Славянова была избрана первым председателем Самарского союза работников искусств.
В 1918 году по предложению Куйбышева Зинаида Михайловна стала главным режиссёром Самарского городского театра. Первая женщина-режиссер российского государственного театра никогда не была знакома с Горьким, но была замужем за известным в то время театральным и литературным критиком Александром Смирновым-Треплевым, страстным поклонником Чехова (Треплев – его литературный псевдоним). Сам Александр и его первая жена были хорошо знакомы с «Буревестником революции». Алексей Максимович писал о жене Смирнова в одном из писем Чехову: «Мне несколько лет казалось, что я без этой женщины не могу жить». Думаю, что в момент написания воспоминаний Исидор просто перепутал некоторые факты и ее имя.
В ноябре 1918 года жизнь в Самаре вернулась в прежнее русло, а Фрих-Хар вступил в ряды «Пролеткульта». Председателем местного Пролеткульта Самарский губернский отдел народного образования назначил Михаила Герасимова, и Пролеткульт разместился в особняке, построенном купцом Сурошниковым.
Если попытаться восстановить хронологию событий, то получается, что бежал он из Уфы еще до взятия Самары Красной армией. Отсидевшись в подвале и дождавшись возвращения красных, вышел на свободу, но тут его снова арестовали. На этот раз свои, для проверки. Он снова совершил побег и при поддержке Славяновой вернулся в строй.
Мои попытки узнать что-то об этой женщине, вознаградили меня ценной информацией. Славянова в Самаре была. Только звали ее Зинаида Михайловна. Она была одной из самых заметных самарских женщин начала прошлого века: актриса, учительница, режиссер, лектор, оппозиционерка, близкая партии социалистов-революционеров. В 1917 Славянова была избрана первым председателем Самарского союза работников искусств.
В 1918 году по предложению Куйбышева Зинаида Михайловна стала главным режиссёром Самарского городского театра. Первая женщина-режиссер российского государственного театра никогда не была знакома с Горьким, но была замужем за известным в то время театральным и литературным критиком Александром Смирновым-Треплевым, страстным поклонником Чехова (Треплев – его литературный псевдоним). Сам Александр и его первая жена были хорошо знакомы с «Буревестником революции». Алексей Максимович писал о жене Смирнова в одном из писем Чехову: «Мне несколько лет казалось, что я без этой женщины не могу жить». Думаю, что в момент написания воспоминаний Исидор просто перепутал некоторые факты и ее имя.
В ноябре 1918 года жизнь в Самаре вернулась в прежнее русло, а Фрих-Хар вступил в ряды «Пролеткульта». Председателем местного Пролеткульта Самарский губернский отдел народного образования назначил Михаила Герасимова, и Пролеткульт разместился в особняке, построенном купцом Сурошниковым.
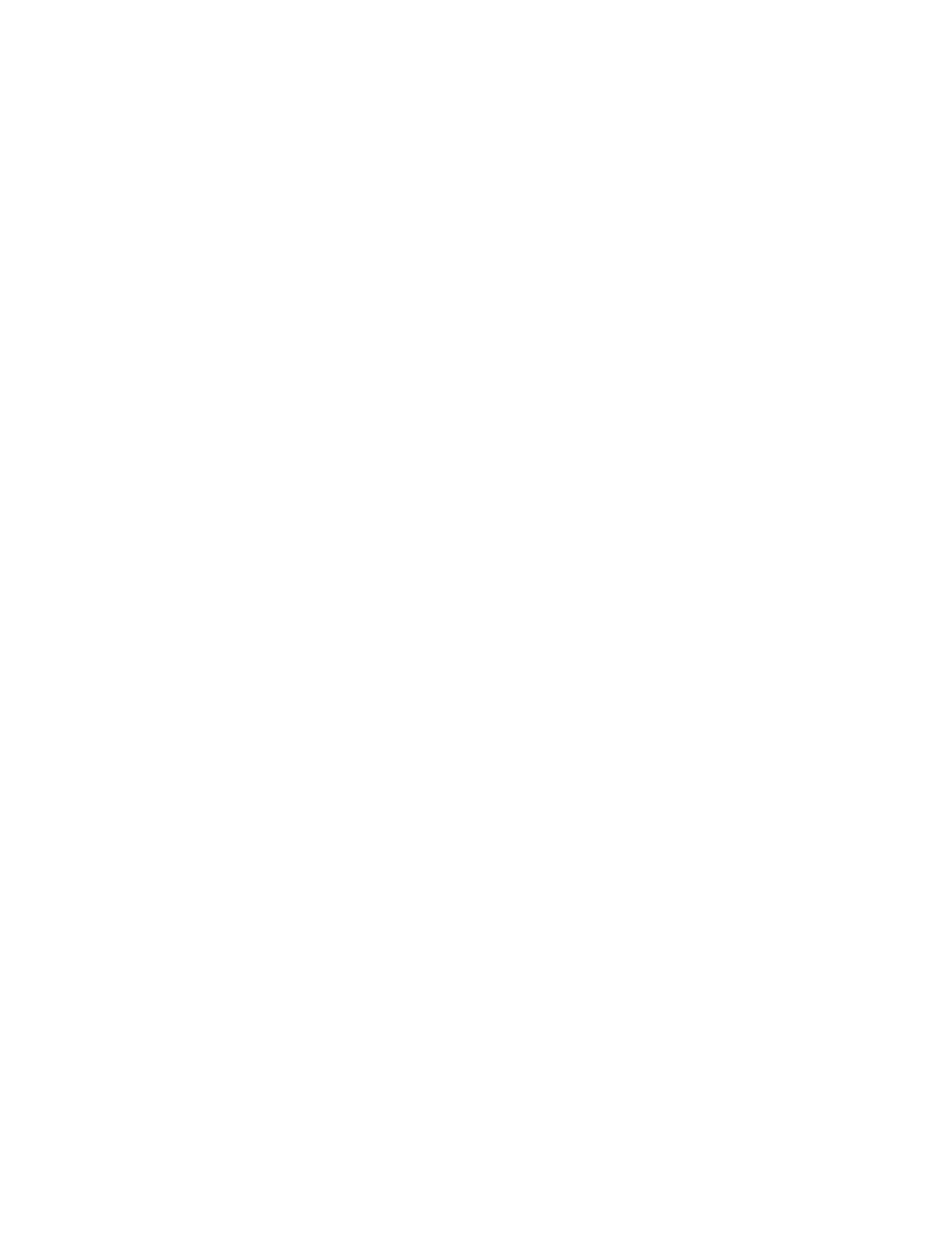
Михаил Герасимов
Михаил Герасимов – поэт, писавший стихи о железных цветах и о зареве заводов: комиссар, ходивший по городу в кожаной куртке, с браунингом на боку. Жил там же – в особняке, здесь же он редактировал журнал «Зарево заводов», в первом номере которого среди прочего была опубликована написанная им вместе с двумя Сергеями – Есениным и Клычковым – «Кантата».
Боевой товарищ Исидора, Артем Веселый с некоторыми перерывами («когда менял винтовку на перо») жил в служебной квартире при редакциях «Приволжской правды» и газеты «Солдат, рабочий и крестьянин» (8 декабря 1918 года эти газеты объединены в издание «Коммуна»).
И снова фотография из семейного архива: крайний слева сидит Артем Веселый, стоит – Михаил Герасимов. В центре, в очках – мой дед, Максим Григорьевич Адельсон-Вельский, ответственный редактор газеты «Коммуна». На столе лежит один из номеров этой газеты.
Боевой товарищ Исидора, Артем Веселый с некоторыми перерывами («когда менял винтовку на перо») жил в служебной квартире при редакциях «Приволжской правды» и газеты «Солдат, рабочий и крестьянин» (8 декабря 1918 года эти газеты объединены в издание «Коммуна»).
И снова фотография из семейного архива: крайний слева сидит Артем Веселый, стоит – Михаил Герасимов. В центре, в очках – мой дед, Максим Григорьевич Адельсон-Вельский, ответственный редактор газеты «Коммуна». На столе лежит один из номеров этой газеты.
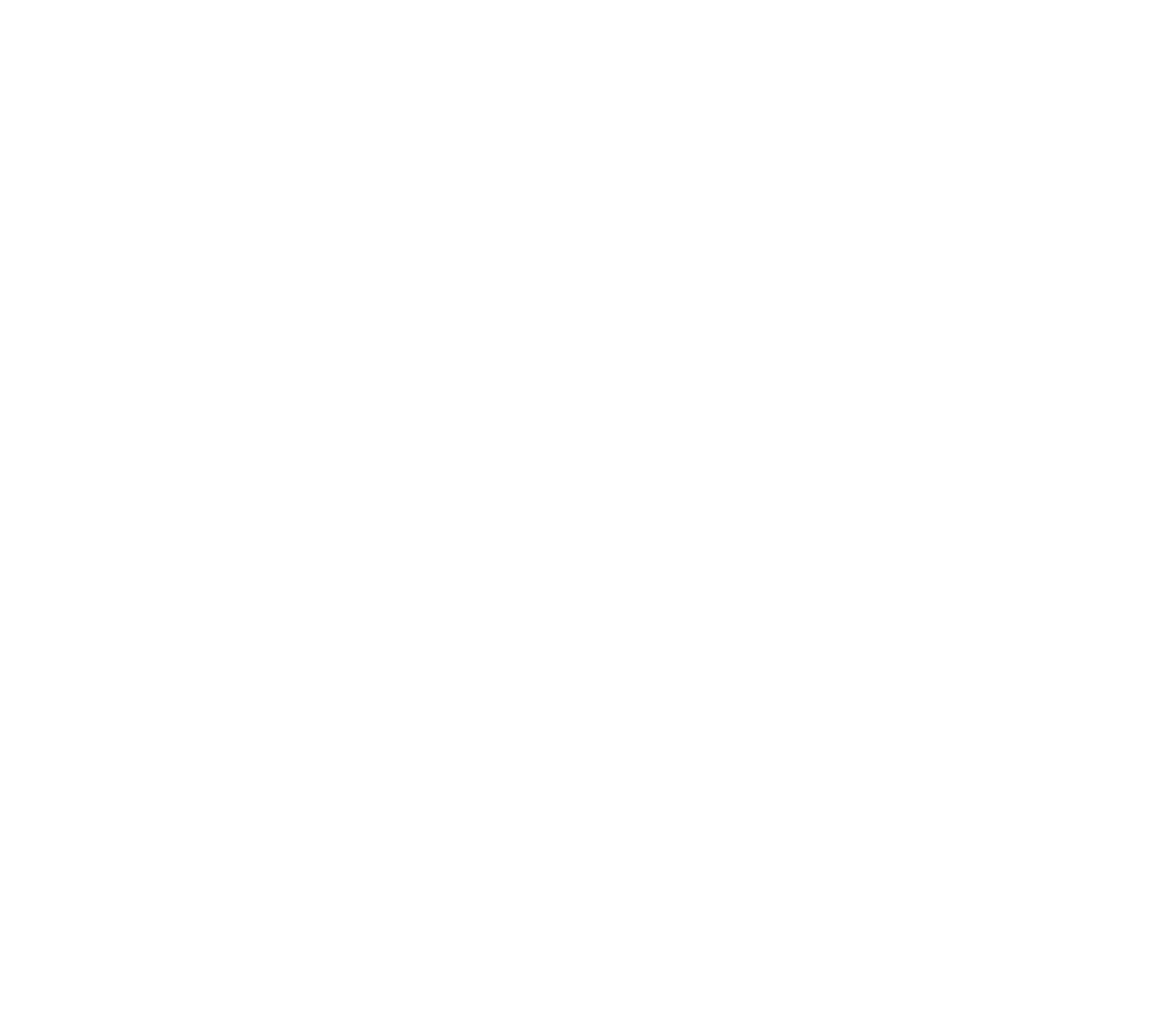
Деятельность Пролеткульта в Самаре, как и по всей России, заключалась прежде всего в пропаганде советской власти. Для большей мобильности создавались специальные агитпоезда. «Художники создавали плакаты и участвовали в оформлении мероприятий в соответствии с планом Монументальный пропаганды. Бесспорными лидерами были Г. Г. Ряжский, И. Г. Фрих-Хар, Н. Н. Попов, В. В. Гундобин, К. Д Михайлов, Д. И. Спасский, которые расписали два красноармейских клуба, кино, новую библиотеку-читальню имени Парижской коммуны, обеспечивали украшениями и оформлениями город кого многочисленным праздникам и демонстрациям». (Востриков В.Н. Искусство революции первых лет Октября в Самаре).
Интернет услужливо подбросил мне фотографию:
Интернет услужливо подбросил мне фотографию:
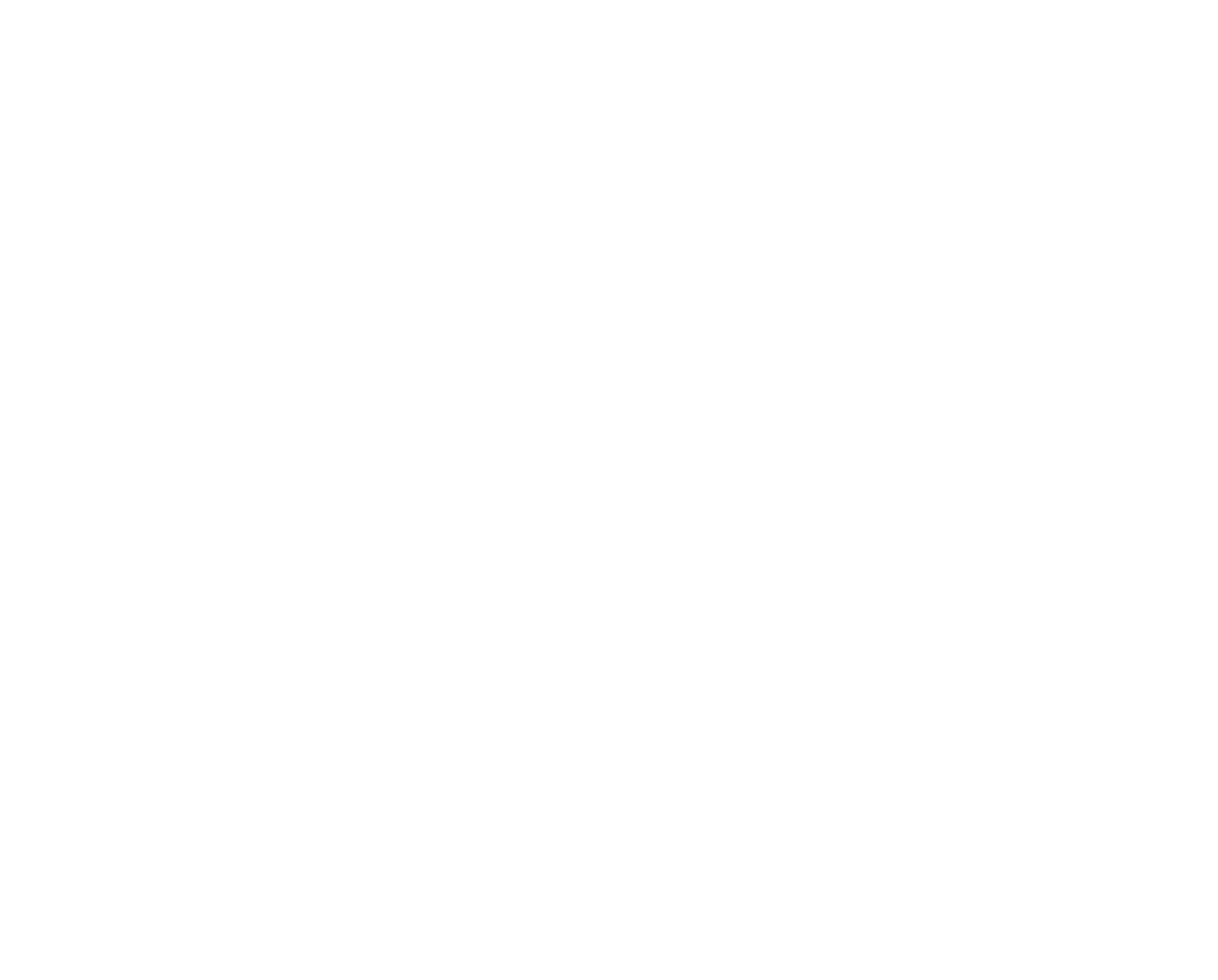
Крайний слева в первом ряду – Г.Лелевич (Лабори Гилелевич Калмансон, также писавший под псевдонимом Л. Могилевский) один из редакторов газеты «Коммуна», во втором ряду – Михаил Герасимов. Могу предположить, что рядом с Герасимовым, во втором ряду в странноватой шапке сидит художник Георгий Ряжский.
А скульптура, которую обнимает художник на фотографии из семейного архива, тоже стала понятной.
В 1919 году, создается специальная комиссия по празднованию годовщины Красной армии. На фото из фондов Самарского областного краеведческого музея имени Алабина – крайний слева в первом ряду – наш герой.
А скульптура, которую обнимает художник на фотографии из семейного архива, тоже стала понятной.
В 1919 году, создается специальная комиссия по празднованию годовщины Красной армии. На фото из фондов Самарского областного краеведческого музея имени Алабина – крайний слева в первом ряду – наш герой.
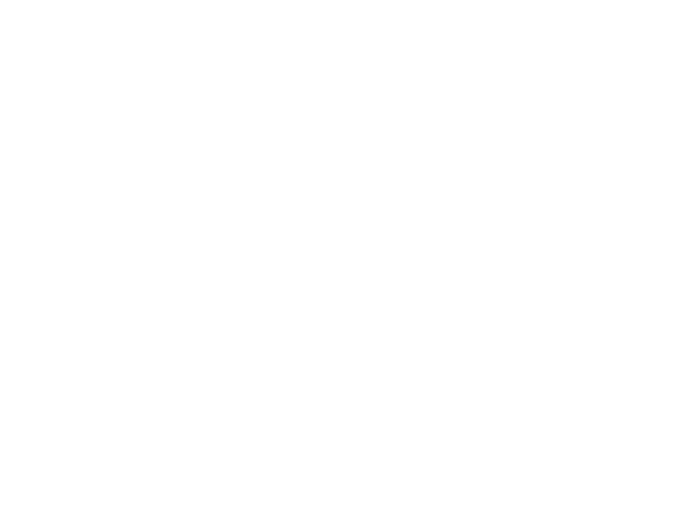
«Для проведения праздничных мероприятий разрабатываются приоритетные темы – «III Интернационал», «Советская власть», «Народное образование», «Сельское хозяйство», «Индустрия». Колонны демонстрантов, также как и техника могли свободно прошествовать под триумфальными арками, поскольку их размеры превышали двухэтажные дома. Такие грандиозные сооружения сохранялись в 1919 году, а к годовщине Красной армии возле арок появились многометровые скульптуры, выполненные из снега, представляющие крестьянина с хлебом солью и женщину с букетом цветов как приветствие освободителям – Красной армии. Автором стал молодой скульптор И.Г. Фрих-Хар, который работал в самарском обществе народных университетов преподавателем на курсах лепки и инструктором Пролеткульта». (Востриков В.Н. Искусство революции первых лет Октября в Самаре).
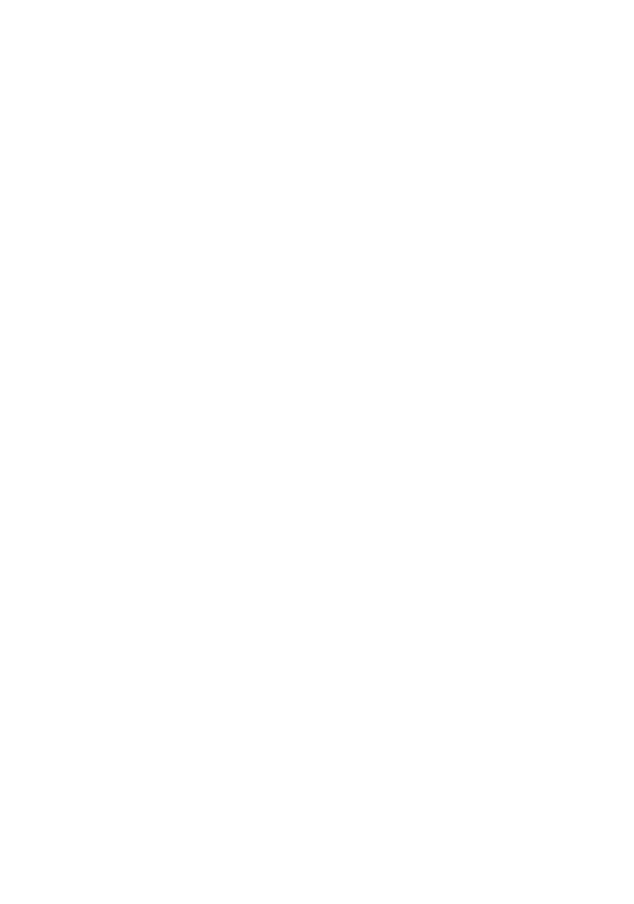
Фото из фондов Самарского областного краеведческого музея имени Алабина
В конце 1919 года Исидор снова сел на коня и отправился в Ташкент на Туркестанский фронт. В 1920 туда приехали и остальные участники самарских событий: Куйбышев, Рабиновичи, Бася Василевская, Панна Стяжкина и другие. Туркестанский фронт - отдельная страница нашего семейного архива.
В отличие от многих своих соратников Фрих-Хар избежал расстрела и репрессий, возможно, благодаря победе на международной выставке в Париже. В начале семидесятых годов ему предложили создать памятник в Новокуйбышевске в память о битве под Липягами. Художник радостно принял это предложение. Он отказался от гонорара и в нескольких словах описал концепцию памятника: «Мы, конечно, воевали с оружием в руках, но мы духовно воевали за мир и счастье народа, поэтому я мыслю себе композицию сугубо мирную, например, гранитную полированную скалу и летящего голубя».
Проект этот не был осуществлен, но, среди фарфоровых статуэток, созданных им, есть много голубей.
В отличие от многих своих соратников Фрих-Хар избежал расстрела и репрессий, возможно, благодаря победе на международной выставке в Париже. В начале семидесятых годов ему предложили создать памятник в Новокуйбышевске в память о битве под Липягами. Художник радостно принял это предложение. Он отказался от гонорара и в нескольких словах описал концепцию памятника: «Мы, конечно, воевали с оружием в руках, но мы духовно воевали за мир и счастье народа, поэтому я мыслю себе композицию сугубо мирную, например, гранитную полированную скалу и летящего голубя».
Проект этот не был осуществлен, но, среди фарфоровых статуэток, созданных им, есть много голубей.
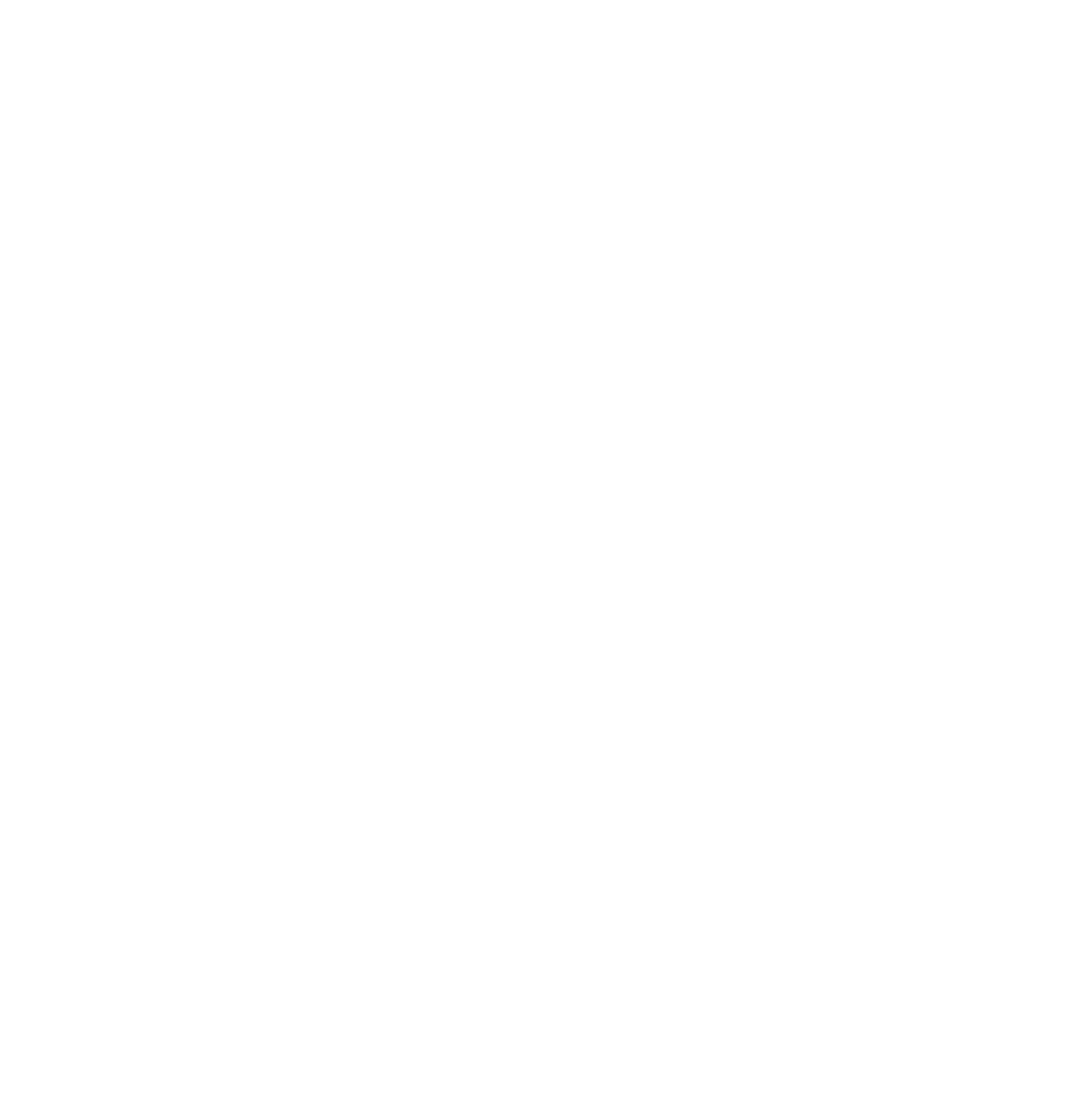
Исидор Григорьевич умер в 1978 году в возрасте 85 лет. Михаил Прокофьевич Герасимов в 1937 году был арестован и расстрелян. Артема Веселого расстреляли в 1938-м. Зинаида Михайловна Славянова попала в опалу в 1937 году, была уволена из театра, а 18 января 1941 года она умерла от болезни.
Этот рассказ начинался с цитаты из статьи Артема Веселого. И закончить мне хочется тоже цитатой из его произведения:
«Не десять, не двадцать и не тридцать годов живет каждый из нас. Десятки, сотни, тысячи, десятки и сотни тысяч веков за нашими спинами… И наши предки в своих натурах уже носили нас, и мы сейчас носим зёрна их характеров и привычек.
В мирозданьи всё проходяще, всё текуче и всё вечно. Мы пылинки мирозданья, звенья бесконечной цепи бытия; во тьме близкого и далекого прошлого наши физические и духовные корни, и в близком и далеком будущем семена каждого человека-творца.
Жизнь человека – мгновение во времени.
И как ничтожны и слепы те люди, лица которых недвижны, как болота, и души которых не озарены ослепляющим огнем Величественного.
А для тех, чьи души разверсты для прекрасного, жизнь – это цветущий сад!»
Этот рассказ начинался с цитаты из статьи Артема Веселого. И закончить мне хочется тоже цитатой из его произведения:
«Не десять, не двадцать и не тридцать годов живет каждый из нас. Десятки, сотни, тысячи, десятки и сотни тысяч веков за нашими спинами… И наши предки в своих натурах уже носили нас, и мы сейчас носим зёрна их характеров и привычек.
В мирозданьи всё проходяще, всё текуче и всё вечно. Мы пылинки мирозданья, звенья бесконечной цепи бытия; во тьме близкого и далекого прошлого наши физические и духовные корни, и в близком и далеком будущем семена каждого человека-творца.
Жизнь человека – мгновение во времени.
И как ничтожны и слепы те люди, лица которых недвижны, как болота, и души которых не озарены ослепляющим огнем Величественного.
А для тех, чьи души разверсты для прекрасного, жизнь – это цветущий сад!»
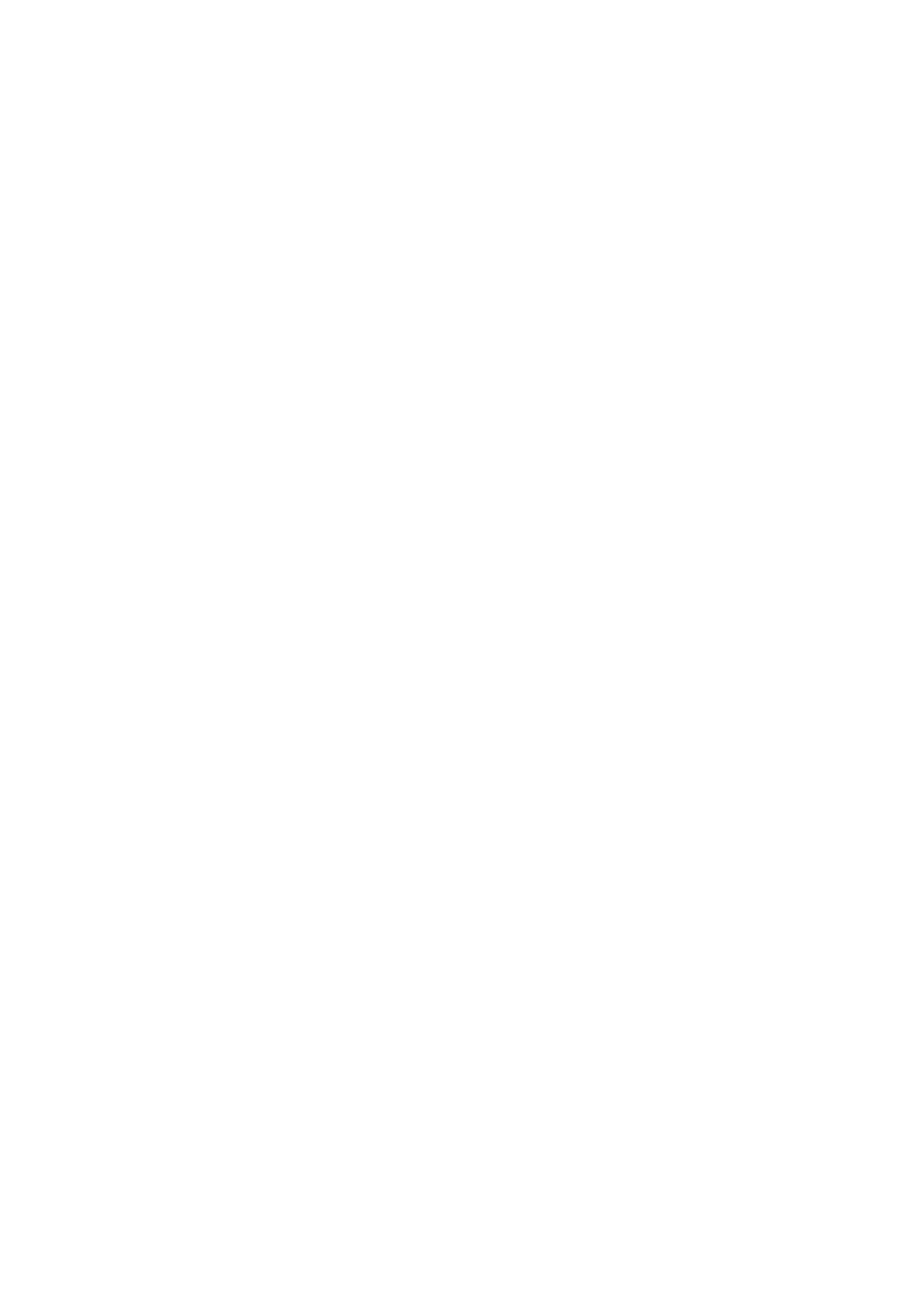
Фрих-Хар Исидор Григорьевич. Панно «Праздник».
Создано в конце 1930-х годов, размер– 320 на 218 см.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Создано в конце 1930-х годов, размер– 320 на 218 см.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ